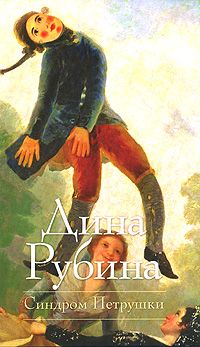Лиза спала, откинув голову на изголовье кресла. По ее профилю витражного ангела волнами проходил свет желтых фонарей, точно она плыла, покачиваясь, в лодке, — в этом было что-то волшебное.
Надо бы еще вывезти ее на Средиземное море, думал я, пусть походит по песку босая, это расслабляет, успокаивает… И вдохновился: а что, снять два номера, переночевать в домиках на берегу, где ночами море шумит чуть не у самой подушки… И снова задержал взгляд на ангельском профиле, безмятежно плывущем в мерном колыхании света вдоль темных холмов Иудейской пустыни; ну что ж, вполне уместно: сюда-то и захаживали Божьи вестники…
И, поднимаясь к Иерусалиму, все поворачивал голову, задерживаясь взглядом на прозрачном профиле. Пока не спохватился.
Нет, сказал я себе жестко. Нет, дурак! Никуда ты больше ее не повезешь, и ничего ты не снимешь. Вот скоро ты ее долечишь, и пусть приезжает за ней ее муж, и пусть он ее увозит…
Мысленно пробежав минувший день, вспомнил, как, восхищаясь и любуясь всем вокруг, Лиза почти все время говорила только о нем, упрямо не называя его по имени. Яркий цветок заморского куста родом с Гаити или Таити вызывал у нее в памяти совсем другую картину: очередную жгучую на него обиду, какое-нибудь воспоминание, касающееся их обоих — их гастролей, их обиталищ, их жизни. И когда я уже готов был выразить некоторое раздражение этим, меня как обухом по башке ударили: да она же просто не помнит себя без него, подумал я. Он был в ее жизни всегда. Был ее учителем, ее тираном, ее рабом. Он просто стал ее создателем — в отсутствие остальных учителей. Эту девочку, которую по очереди опекала целая шеренга шалавых нянек во главе с сомнительным папашей, по сути дела, воспитывал — в том единственном смысле, который предполагает это слово, — один лишь мой несчастный, нервный, деспотичный и нежный — мой безумный друг…
* * *
…Бисерную трель своего нового телефона я услышал, поднимаясь по лестнице, и, пока доставал из кармана ключ и вставлял его в замочную скважину, телефон все переливался ксилофонными бимбомами, мгновениями как бы уставая, но сразу же опять требовательно возвышая звон.
— Борис?
Я не предполагал услышать этот голос так скоро. Мы ведь сегодня замечательно пообщались, а сейчас я устал, хочу пить и одновременно отлить, и лечь поскорее, ей-богу, поскорее лечь…
— Борис, простите, что я так навязываюсь. Вы, наверное, устали…
— Я только что вошел в дом.
— Н у… тогда, пожалуй, отпущу вас.
Нет, было что-то в его голосе, что не давало мне опустить трубку: сожаление какое-то, смятение.
— Назойливая глупость — звонить вам вдогонку, — сказал он.
— Погодите, Яков… Чувствую, вам необходимо выговориться. Отпустите меня на минутку, не больше, и я опять с вами.
Я снял туфли, носком одной сковырнув задник другой, и привычно нашарил ногами тапки под телефонной тумбой.
И только тут увидел женские туфли на высоких каблуках (опять новые!), небрежно скинутые — один привалился к другому, — под вешалкой. Черт возьми! Значит, она уже является без предварительного звонка, победительно уверенная, что никакой другой женщины здесь и быть не может. Какая беспардонность! Не дождавшись меня, преспокойно завалилась в мою постель, полагая, что я немедленно ее разбужу, едва переступлю порог дома. Нет, голубушка, тебе придется подождать…
— Яков? — я говорил приглушенным голосом. — Вот теперь я ваш.
Он осторожно спросил:
— А ваша спутница… она тоже с вами?
Я вспыхнул:
— Мне кажется, я упоминал, что она — жена моего друга и моя пациентка, а вовсе не любовница.
— Да-да, простите! И не вовремя я, и бестактно… А главное — все зря, все поздно, в том смысле, что все кончено много лет назад… — Он говорил с огорченной интонацией воспитанного человека, угодившего в неловкую ситуацию, но понимающего, что теперь уж легче продолжать, чем ретироваться. — Поверите: не могу заснуть, не могу читать, а забыть уж точно ничего не смогу.
Он виновато хмыкнул и заторопился:
— Так разбередила меня эта встреча, и ваша… жена вашего… ну, совсем живая Яня, прямо-таки живая, живая…И, знаете, то, чего я не успел рассказать, вдруг навалилось, сидит в самом горле… Чувствую, что должен, должен позвонить и окончательно выговориться. Я ведь не успел вам главного сказать: того, что узнал от дяди Залмана в нашу последнюю встречу и что мучает меня много лет. А сегодня увидел ее дочь, и она будто укор мне: мол, что ж ты молчишь? Вот так уйдешь, и вместе с тобой уйдет эта, поистине античная трагедия… С другой-то стороны, может, наоборот: надо ли дочери все это знать? Ума не приложу… И подумал: позвоню вам, расскажу, а вы решайте сами, как быть.
Не зажигая света, я вышел в кухню, включил кран, спуская застоявшуюся за день воду, набрал полную чашку и стал пить большими глотками.
— Дело в том, — проговорил он в трубке, — что Тадеуш Вильковский проиграл жену в карты.
Я поперхнулся и закашлялся. Гневное лицо незабвенной бабуси так явственно обернулось ко мне, будто напоминая о давнем нашем разговоре.
— Я думал… это сплетни кумушек.
— Это произошло в доме у дяди Залмана. Они в тот вечер собрались для большого виста, и был там — дядя говорил — один из крупных чинов, то ли полковник, то ли даже генерал из этих, вы понимаете? — с которыми не стоит играть ни в какие игры… Дядька поставил хороший коньяк, и все постепенно разогрелись, а Тедди — тот был особенно на взводе. За первую половину вечера он спустил крупную сумму денег, а затем, пытаясь отыграться, спустил все до копейки, включая и квартиру… Он был белый, говорит дядька, как мука, совершенно белый, рыхлый, с дрожащим подбородком. И заявил, что больше ему ставить нечего, что он — нищий. Тогда этот крупный чин — то ли полковник, то ли даже генерал, — перегоняя папироску из одного угла рта в другой, лениво щурясь от дыма, проговорил:
«О, нет, вы ошибаетесь, Вильковский. У вас есть капитал. У вас есть настоящее сокровище — ваша супруга. Ну так что, — „пишем козачк?“? Боюсь, только это вас и спасет…»
Тогда Тедди вскочил, рванул галстук, закашлялся и выскочил на балкон — как бы воздухом подышать. И долго там стоял, хотя лил ужасный дождь. Он стоял и стоял под этим дождем на балконе и не возвращался… А остальные пили коньяк в уютно освещенной комнате, за столом под большим абажуром и ждали, когда он вернется…
Вдруг я вспомнил четверку преферансистов в доме нашего дантиста, куда однажды я относил по поручению бабуси какой-то сверток — для протезиста. Я попал в задымленную сигаретами, разогретую выпивкой неуловимо опасную атмосферу. Особенно странным казалось то, что смысл фраз, которые выкрикивали мужчины — каждый с карандашом за ухом и с бумажкой на столе, — был мне абсолютно непонятен:
— Под вистующего с тузующего!
— Под игрочк? с семачк?!
— Жена и скатерть — враги преферанса!
— Хода нет — ходи с бубей!
Я быстро передал Моте пакет (для этого он заволок меня в «кабинет» с бормашиной, уже задрапированной китайским халатом) и с облегчением устремился в прихожую, потому что от дыма нестерпимо слезились глаза. Вслед мне неслось нечто вроде:
— Карты дым любят!
— А за это — канделябром бьют!
В нашей семье никто не играл в карты. Я вырос под другое: под «Полонез» Огинского и «Сонатину» Клементи маминых учеников… Задымленная гостиная дантиста Гредера недолго обитала в моей памяти. Но сейчас, когда я вдруг так неожиданно вспомнил этот вечер, я понял, что Мотя вполне мог бывать четвертым в подобных компаниях.
— И минут через пятнадцать Тедди вернулся: абсолютно мокрый, дрожащий, сел к столу и сказал, что согласен играть… — Доктор Зив закашлялся и перевел дух… Слышно было, как обстоятельно он высморкался.
Я открыл балконную дверь и с телефоном в руке вышел на воздух. Прямо передо мной над ближайшим холмом стояла неумолимая луна с плывущим лицом. Какое бы выражение ни придавал ей дрожащий воздух пустыни или прозрачные лоскутья медленных облаков, это лицо оставалась мрачным, брезгливым, тронутым ржавчиной псориаза…
— Вы знаете, Борис, как проигрывают жен? — негромко спросил доктор Зив. — Играют один на один, и называется это «пишем козачк?». Карты раздаются на троих, но третью стопку открывает вистующий, и вистующий играет с двумя наборами карт… И вот они сели друг против друга — Тадеуш Вильковский и полковник, или генерал, или дьявол его знает, в каком чине была эта сволочь… и Тедди проиграл ему жену. Ангелицу с пылающими власами. Светлый образ небесных сфер.
— Но… погодите… в каком же смысле? — глухо спросил я. — Она должна была стать женой этого… гэбиста?
— Да бросьте! — презрительно, с силой проговорил он. — Кому нужна чужая жена на всю жизнь? Она нужна на вечер, на ночь…Что дальше делать с этим хозяйством, одни только хлопоты. У них там, надо полагать, не было недостатка в явочных квартирах, или как это называется. А диван — он везде найдется. Велел прийти по такому-то адресу, и все дела. Зато остальное проигранное широким жестом вернул.