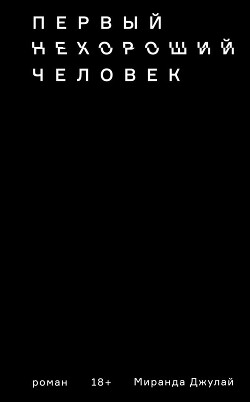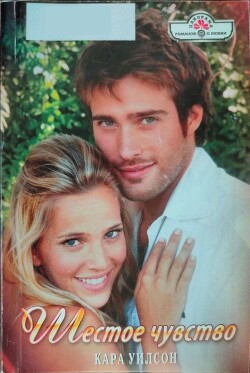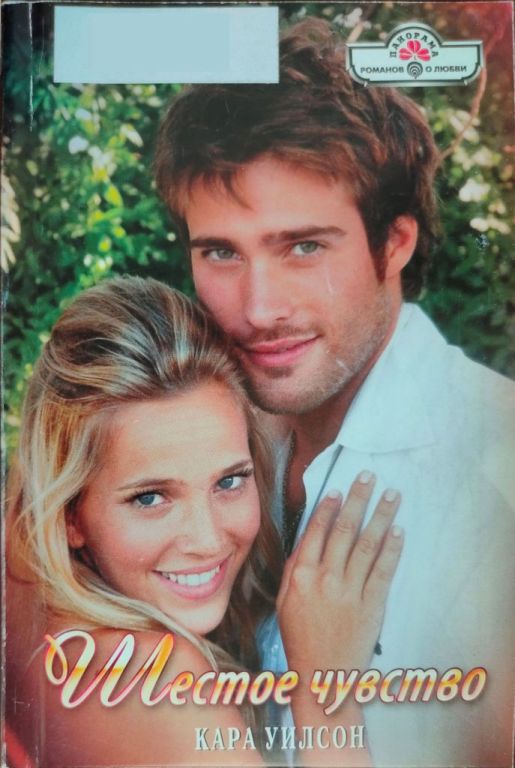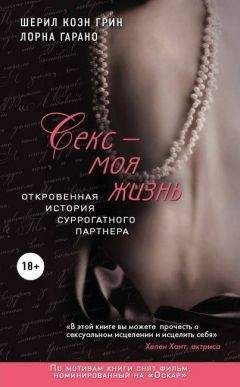Мы сидели рядышком и смотрели, как мать обнаруживает, что младенец не дышит. «Мария?» Она потрясла ребенка. «МАРИЯ!» Лицо ей перекосило от ужаса. Она позвонила «911», а затем, поскольку не знала, как делать младенцам искусственное дыхание, просто ждала, подвывая, пока ее ребенок, возможно, умирал у нее перед носом.
Мы отчаянно дышали в рот нашим куклам и жали им на грудь в замызганных, потертых точках. Никогда прежде не симулировали мы с такой страстью. Я косилась на Кли и думала, не напоминает ли ей все это видеоинструкции, которые мы обе когда-то смотрели. Тоже самооборона, в каком-то смысле. Далее бедная Мария поперхнулась виноградиной.
– Я не знаю, справлюсь ли, – сказала Кли, отпихивая от себя куклу.
– Справишься, – уверила ее я. – Почти всё уже. – Но она смотрела на меня, исполненная некоего невыразимого, особого значения. Материнство. Она не знала, справится ли. Я отвела взгляд, лупя своей куколке по спине – один раз, другой, третий, а затем приложила ухо ко рту, прислушалась к дыханию.
Глава тринадцатая
Дома никаких приборов не было. Если давление у Джека или пульс, или потребление кислорода повышались или понижались, мы об этом узнать никак не могли. Он ел ежечасно, круглосуточно; Кли почти никогда не разлучалась с отсосом, а я постоянно грела, мыла или держала бутылочку. Она перебралась обратно на диван, а Джек спал со мной в спальном поддоне. Каждые несколько секунд я клала на него руку – чтобы успокоить, но спать так не могла, потому что полный вес моей руки раздавил бы его. Я держала руку на весу часы напролет. Из-за этого у меня развились убийственные боли в плече и шее, какие в других обстоятельствах тревожили бы меня в первую очередь. Я не обращала на них внимания. Его мучили колики – после каждой бутылочки он по многу часов возился и брыкался в муках.
– Сделай что-нибудь сделай что-нибудь, – кричала Кли. У него прекратилась деятельность кишечника. Я массировала ему живот, крутила ноги, как на велосипеде. С ним явно было что-то очень не то; улыбка к четвертому июля казалась, мягко говоря, маловероятной, поскольку Джек все еще оставался, будем считать, кульком с потрохами. Лицо его покрывали царапины, но ни мне, ни ей не хватало уверенности подстричь ему ногти. Моим плечам сделалось хуже. После первой недели я переставила поддон Джека на пол и спала рядом с ним. Я не мыла его, поскольку слишком опасалась, что он выскользнет у меня из рук или что у него развяжется пупок. Однажды ночью я проснулась в три часа, уверенная, что он протухает, как куриная тушка. И лишь опустив его в раковину, я осознала, до чего безумное время суток сейчас для мытья ребенка, и принялась плакать: он такой доверчивый – я могла сделать с ним что угодно, он бы все стерпел, маленький дурак.
Кли откачивала и откачивала. Иногда спала, откачивая. В основном смотрела телевизор с выключенным звуком. Если я не обнаруживала ее в доме, она сидела снаружи, на обочине. Когда я пожаловалась, что она мне не помогает, она сказала:
– Хочешь, чтобы он смесь ел? – Словно она вправду хотела помочь, но не могла. Она для всего этого оказалась подготовленной хуже некуда – теперь это стало очевидно, однако что я могла поделать? Времени разбираться с этим не оставалось, а у Джека все не налаживался кишечник. Прошло двенадцать дней. Вся посуда валялась грязная, Кли попыталась вымыть ее всю разом в ванной – сказала, что уже проделывала такое. Сток засорился немедленно, явился толстый слесарь, тот самый; Джек глянул на него разок и могуче расслабил кишечник, от чего взорвался подгузник; желтый творог оказался повсюду. Я рыдала от облегчения, целуя его и вытирая его тощую попу. Кли сказала «прости», а я сказала «нет, это ты прости» и в ту ночь легла обратно в постель, размышляя, с чего я взяла, что сон на полу чему-то поможет. Кли осталась на диване. И ладно, до даты консуммации, назначенной доктором Бинвали у нас все равно был еще месяц.
Помимо каканья, питания и сна Джек икал и издавал липкие птеродактильные звуки, зевал и экспериментально высовывал неуклюжий язык сквозь крохотную «о» губ. Кли спросила, способен ли он видеть в темноте, как кошка, и я сказала «да». Позже осознала свою оплошность, но было уже пять утра и она спала. Наутро я все забыла. Я каждый день забывала сказать ей, что в темноте он, как кошка, видеть не может, и каждый вечер вспоминала, с нарастающей тревогой. А что если так продолжится год напролет, и я ей так и не скажу? Тело у меня так устало, что часто плавало где-то рядом со мной или надо мной, и мне приходилось подтаскивать его к себе, как воздушного змея. Наконец однажды вечером я написала на клочке бумаги: «Он не может видеть в темноте», – и положила его рядом с ее спящим лицом.
– Что это? – спросила Кли на следующий день, держа в руке бумажку.
– О, слава богу, да. Джек не может видеть в темноте, как кошка.
– Я знаю.
Внезапно я перестала быть уверенной, как это все началось. Может, она никогда и не спрашивала. Я оставила эту тему – с мрачными мыслями о собственном рассудке. Наступившей ночью меня затопило подозрениями, что этот ребенок – не Кубелко Бонди вовсе, что меня надули. Через час я решила, что Джек – ребенок Кубелко Бонди, что Кубелко породил это крошечное существо, и мы с ним сидим, пока Кубелко не вырастет и не сможет сам за ним приглядывать.
Но если ты – ребенок Кубелко Бонди, где же тогда Кубелко Бонди?
Я и есть Кубелко Бонди.
Да, верно. Хорошо. Так проще.
Я обвила рукой его спеленатую тушку. Пытаться обнимать его – все равно что обнимать кекс или чашку. Площади не хватало. Очень бережно я поцеловала его в пятнистую щеку. Его уязвимость убивала меня, но можно ли именовать это любовью? Или же это просто очень лихорадочная жалость? Его кошмарный плач разрывал воздух – пришло время следующей бутылочки.
Ночные кормления были в час, в три, в пять и в семь. В три – скверно. Во все остальные часы сохранялось какое-то подобие цивилизованности, но в три я пялилась на луну, укачивая чьего-то ребенка, который украл мою единственную жизнь. Еженощно план у меня был один и тот же: дожить до рассвета, а затем разобраться, какие у меня есть варианты. Но получалось одно и то же: вариантов никаких. Варианты были до ребенка, но ни один не воплотился. Я не улетела в одиночку в Японию – посмотреть, как оно там. Я не нагулялась по ночным клубам, не поприставала к незнакомцам с предложением: Расскажи мне все о себе. Я не походила в кино сама по себе. Я вела себя тихо, когда на то не было никаких причин, и последовательно, когда последовательность не имела значения. Последние двадцать лет я жила так, словно заботилась о новорожденном. Я помогла Джеку срыгнуть мне в ладонь, поддерживая ему голову сгибом большого пальца. В гостиной завелся отсос Кли. Не добродушное шуп-па больничного насоса: этот новый оказался визгливее, по звуку – хуц-па, хуц-па[21]. Постоянно накапливавшееся осуждение – мы что о себе возомнили, оставив себе этого ребенка? Ну и хуц-па, хуц-па, хуц-па.
Но поднималось солнце, и я переваливала через гору жалости к себе и вспоминала, что в конце этой жизни все равно собиралась помереть. Какая тогда разница, если я проведу ее вот так – в заботах об этом ребенке, а не как-нибудь еще? Я бы все равно осталась привязанной к земле, он не отнял у меня возможность летать или жить вечно. Зауважала монахинь – не тех, кому предписано, а современных женщин, которые это выбрали. Если хватает мудрости понять, что эта жизнь состоит в основном из отпускания того, чего тебе хочется, чего бы тогда не приноровиться отпускать хорошенько, а не пытаться удержать? Подобные экзотические откровения всплывали непроизвольно, и я начала понимать, что недосып, бдительность и постоянные кормления – своего рода промывка мозгов, процесс, в котором моя прежняя самость приобретает новые очертания, медленно, однако неумолимо: мать. Это больно. Я пыталась оставаться сознательной, пока это происходило, словно наблюдая операцию на себе самой. Я надеялась сохранить крошечный уголок прежней себя – лишь бы хватало, чтобы предупреждать других женщин. Но понимала, что вряд ли: когда процесс завершится, во мне не останется ничего такого, чем можно было бы жаловаться, больше не будет болеть, я не вспомню.