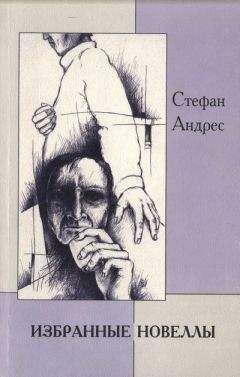— Чего это ты так разволновался? — спросил у него я. — Этот царственный недоумок явно произвел на тебя впечатление, или, вернее сказать, его коронованный зверь. Включи диктофон, признаюсь, ты возбудил мое любопытство.
— Ну ладно, — Хадрах попытался улыбнуться, — только не с самого начала, не то я запутаюсь.
И снова в нашей машине зазвучал голос Мауры, чуть хрипловатый из-за усиленного курения, мрачный, самодовлеющий голос, на дно которого ушла Кетхен из Хайльбронна, хотя еще и не совсем умершая.
«Странно, — думал я, глядя из окна на мрачный, однотонный ельник — мы находились как раз на высокогорном шоссе вдоль гребня Хунсрюка, — странно это близкое соседство гигантских противоречий, жестяное чудище, произведенное по ту сторону океана, скользит почти неслышно, как тень грозового облака, по этому шоссе, через этот перевал среди высокоствольного елового леса, который для нас остается неизменным, с какой бы скоростью машина ни наматывала на колеса ленту асфальтового шоссе, а тем временем женский голос, нимало не взволнованный вращением колес под нами, со спокойствием поистине иерархическим и сдержанной глубиной являет нам Древнюю Византию вне времени и пространства».
«В тот день император снова повелел снять с него корону с лилиями и вместо нее сомкнуть на висках диадему. Он не стал поклоняться Богородице, а вместе со своей свитой выехал в загородные владения. На другой день император предполагал парфорсную охоту, как он им сказал, а потому уже с заходом солнца удалился в свои покои. Белокурые же варяги, которые подобно изваяниям несли караул перед опочивальней императора, вскинув на плечо топорики, могли слышать его шаги далеко за полночь. Ноги императора описали множество кругов вокруг ложа. Губы же его бормотали, порой тоном растерянного вопрошания, которое вздымалось до слов молитвы, порой же отвечая на собственные вопросы пророческим толкованием и в сотый раз повторяя одни и те же слова: „Увенчанный короной зверь отнесет тебя к неведомой покамест цели“.
Так говорил его крестный отец, могильщик из маленькой македонской деревушки, когда маленького Василия погружали в крестильную купель. Слова старика были тогда восприняты как обычная болтовня могильщика и вскоре позабыты. Когда Василию сравнялось двадцать лет, престарелый могильщик снова отверз уста, указал на Восток и шепнул Василию на ухо: „Иди, иди далеко-далеко, пока не прибудешь в город городов. Иди, пока не упадешь. Тогда тебя поднимут, и зверь-венценосец отнесет тебя к неведомой пока цели“. Больше старик ничего не сказал, ибо умер. А молодой крестьянин Василий, облаченный в грязные шкуры, собрался в дальний путь».
Голос на пленке вдруг исчез. Палец Хадраха аккуратными, поглаживающими движениями прошелся по кнопке-выключателю.
— Ну, что ты на это скажешь? — спросил он, высоко подняв брови.
— Хорошо бы узнать, что будет дальше, — ответил я и не без раздражения добавил: — Но если ты будешь всякий раз, когда тебе заблагорассудится, нажимать на кнопку, мы сможем только строить догадки по поводу этого коронованного зверя.
Хадрах фыркнул.
— И при этом, — он поднял довольно тяжелый аппарат и слегка встряхнул его, — и при этом здесь уже содержится все, как в яйце, вполне готовое «К неведомой пока цели»… Маура эту цель уже знает, и венценосного зверя, и цель Василия, хотя из этого отнюдь не следует, что судьба лично ее о том проинформировала. Просто она рассказывает, что некогда произошло — но какое мне до этого дело?
Я перебил его:
— Но ведь именно по этой причине все можно дослушать до конца и не нервничать.
В аппарате щелкнуло и Маура продолжила свои речи:
«Он прибыл в город Константина и рухнул неподалеку от Золотых ворот, у входа в монастырь Святого Диомида, после чего очнулся от подобного смерти сна, укрытый парчовыми одеждами. То настоятель монастыря распростер богатый полог над спящим, на лбу которого он прочел сложившийся из пота и пыли знак избранности. И все, что с той минуты ему ни предлагали, Василий признавал своей целью, благо она была ему до сих пор неведома. В единоборстве он сумел одолеть богатыря из Болгарии; он объездил для императора Михаила коня, который считался неукротимым; он принимал во дворце подарки и рабов, присылаемых ему знатными женщинами; он стал шталмейстером, полководцем, соправителем, зятем императора. И теперь, в такой близости к трону, он возомнил неизвестную цель познанной. Коронованный зверь, оседланный Василием, — уж не была ли это Римская империя? Бывший объездчик, подобно Юстиниану, даровал законы своим подданным; силач наставлял опытных строителей; подобранный в пыли попрошайка наполнил казну Византии богатствами, собранными с половины Земли. Однако глаза нового космократа с каждым годом все больше и больше принимали выражение человека, который, привстав на стременах, может заглянуть за край неба. Словом, это было время, когда он искрошил пророчество могильщика на отдельные изречения оракулов. „Зверь-венценосец“ — так теперь называл его народ, но он лишь улыбался одинокой улыбкой, слыша это примитивное толкование».
И снова в магнитофоне что-то щелкнуло, и голос Хадраха словно поглотил голос рассказчицы, он проворчал:
— Из-за одних только подробностей крайне увлекательно, не будь он таким невыносимо занудным, этот зверь. Интересно, что имела в виду наша добрая Маура, подсунув мне этот текст? Как по-твоему? Обычно вся духовная пища, которую она, разжевав, записывает на пленку, полна намеков: чтобы варвар от цивилизации всякий раз чувствовал себя словно у сосцов культуры, либо какая-нибудь религиозная мысль в гомеопатическом разведении закапывается поэтической пипеткой человеку, у которого нет времени даже подумать о единственно необходимом, или в дело вмешивается врач, твой друг и помощник… Постой, я вот что подумал… — голос Хадраха дрогнул, он поспешно обшарил все свои карманы, — у тебя сигареты случайно не найдется?
Когда я ответил, что, как ему известно, я уже много лет не курю, он резким движением сдвинул влево стекло, отделявшее нас от шофера, и приказал тому кратчайшим путем доставить нас в какое-нибудь кафе, чтобы купить там сигареты, потом вернул стекло на место и, словно обессилев, отвалился на подушки.
— Черт побери это вечное переодевание. Да, я знаю, ты больше не куришь, Маура тоже бросила курить с тех пор, как я ездил в Гонконг. Так что я хотел сказать? A-а, вот: во всем, что Маура в последнее время делает и не делает применительно ко мне, есть скрытый подтекст. Неприятное состояние. Я все вижу, а воспринимаю лишь то, чего хочу сам. Но тысяча чертей — какую цель она преследует, рассказывая мне про этого Василия? Признаюсь тебе: если такой деятельный и сильный мужик не может выкинуть из головы болтовню покойного могильщика, на кой мне это сдалось?
И тут Хадрах без всякого перехода начал рассуждать о своем дне рождения и о том, как ему, по сути говоря, легко разменять седьмой десяток. «Это даже и не возраст», — пробормотал он и смолк. Его поседевшая, некогда черная, массивная голова лежала на красном подголовнике. Закрыв глаза, он начал самым низким из своих голосов: «Amor fati! [29] Что мне за дело до оракулов и заклинаний, предостережений, почестей, разочарований?!» И вдруг, словно в беспамятстве, он съехал по гладкой коже сиденья, и лицо его вплотную приблизилось ко мне. Он оскалил зубы в гримасе, о которой трудно было сказать, чем она разрешится: смехом или слезами. Но он всего лишь покачал головой, посмотрел прямо перед собой и сообщил, что ни его дочь, ни его сын не приедут к нему на день рожденья. «Цилли развлекается где-то на Ривьере и подвернула ногу, катаясь на водных лыжах, а Петер — подумать только — за окошечком в операционном зале лондонского банка — тоже подвернул ногу. Ну и пусть, могут не приезжать. Я только одного не могу им простить — что оба настолько лишены фантазии и не могли придумать более убедительное извинение и — уж столько-то чуткости дети вполне могли бы проявить — не пожелали даже уговориться друг с другом. Но дети и не бывают чуткими, когда речь идет об их родителях. Радуйся, Петер, благодари судьбу, что у тебя нет детей. Проходит много времени, прежде чем ты сможешь по-настоящему их разглядеть, по-настоящему, не питая иллюзий. Кстати, Петер вместе с Маурой подарил мне твою картину, я уже успел — хоть и не положено — ее увидеть. А Цилли прислала мне доску, к которой приделан стоячий воротничок, а в нем плавает фотография какой-то русалки, не самой Цилли, это бы еще куда ни шло, нет, какая-то незнакомая задасто-грудастая блондинка, и кроме того, к доске приклеено много всякой всячины, даже птичьи перья, вата бытовая и — в общем, черт побери! За это она якобы выложила несколько тысяч марок… И Цилли сообщает мне об этом — причем она пытается подать свою откровенную наглость как наивность, — а на самом деле, чтобы намекнуть мне, насколько выше должна быть сумма очередного чека. Ну ладно, этот воротник я подарю первому попавшемуся музею современного искусства, я слыву знатоком и меценатом, так что тут все будет о’кей. Понимаешь, я не хотел видеть детей такими. Вспомни Иоганна Вольфганга Гёте: „Мы не можем наклеивать детей как коллажи, итак, Amor fati!“ — Он снова откинулся на подушки и смолк. И вдруг я ощутил прикосновение его руки к своему колену: — А ты, Петер, ты мне что подарил?»