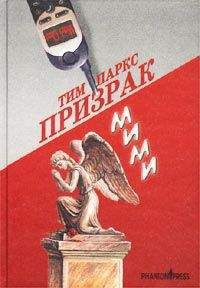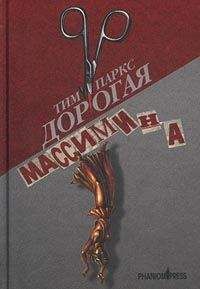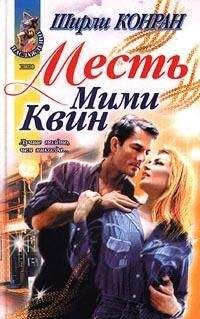– Что ж, идея неплохая.
Ну вот, опять Кваме удалось произвести впечатление. Моррис вернулся на кухню.
– Когда-то и я вот так будил свою мать – приносил ей чай в постель, – заметил он. Хотя этого, возможно, и не стоило говорить: сразу вспомнилось, как разъярился папаша, когда после смерти матери Моррис наотрез отказался готовить чай для него и его баб. В кровь мигом проник прежний яд, а в душу – глубокая горечь. А вдруг какой-нибудь бульварный листок донес до папаши весть, что его сын в чужой стране парился в тюрьме по подозрению в убийстве? Что ж, было бы здорово. Может, старый распутник усвоит наконец, что не такой уж он маменькин сынок.
Кваме возился у плиты.
– Я мигом, босс, только заберу кой-чего со старого места, – сказал он, поставив чайник. И помчался наверх, перемахивая по три ступеньки.
Когда Моррис подошел с этим чайником к спальне Форбса, на его осторожный стук немедленно отозвались:
– Veni Creator Spiritus![17]
Форбс уже пробудился и читал в постели, в полном одиночестве. На полке дымилась курительная палочка, распространяя довольно приятный запах; кругом валялись таблетки, микстуры и свечи от геморроя. Моррис деликатно отвел глаза.
– Счастлив снова видеть вас здесь, голубчик, – просиял старик. – Это просто великолепно!
Когда Моррис выразил приличествующее восхищение замечательными этюдами, созданными под чутким руководством Форбса, старик, – которого его благодетелю еще не доводилось наблюдать в столь приподнятом настроении, воздел полосатые рукава пижамы и весьма лирично провозгласил:
– Virginibus puerisque canto.[18]
Декламируя это, он кивал в такт и смотрел в голубые глаза Морриса. Они дружно наслаждались мимолетным совершенством жизни, ловя момент, пока не подоспели новые неприятности. Моррис никогда еще так не любил своего высокомудрого приятеля, как в то утро. Он не замедлил поведать, как обратил сердце свое к Господу и решил без остатка посвятить жизнь филантропии. Школа Форбса станет краеугольным камнем этих планов.
– По крайней мере двое учеников должны быть из бедных семей, я сам буду платить за их обучение, – настаивал он, глядя на Форбса ясным взором, а тот лишь потрясенно качал головой.
* * ** * *
Что есть литургия? Пожалуй, точнее всего ее можно описать, как долгое ритмичное бормотание. Речи дона Карло были тихи и несвязны. Отклики паствы накатывались, как легкие волны в погожий день, с шипеньем разбиваясь о каменный пол церкви Сан-Томмазо-ин-Органо под шарканье подошв и шелест дорогих платьев. Голос священника завлекал – а ну-ка, все вместе: «Che Gesщ vi benedica». А теперь снова дружно: «Ave Maria, madre di Dio». Вот молодцы, теперь опять хором: «Amen». Да благословит вас Господь; Богородице, Дево, радуйся. В общем, полный аминь… В маленькой церквушке смачный дым кадильниц кружил голову подобно гашишу, струи его колебались из стороны в сторону, завивались кольцами и таяли в лучах солнца, перекрещенных в тесном пространстве между амвоном и алтарем, словно ажурные фермы сияющего небесного моста. Со стен смотрели из полумрака фигуры Страстей Господних, будто призраки у роковой черты.
Короче говоря, ничего более близкого ему по духу Моррис не смог припомнить за всю жизнь. Он искренне жалел, что не приобрел эту привычку много лет назад. А если бы еще удалось уговорить Паолу! Какая была бы семья: они торжественно стоят рука об руку, рядом двое или трое ангелочков. Ну, как может женщина не поддаться на такой естественный соблазн? Вот это – достойная цель. И ее необходимо добиваться.
Еще Моррис размышлял о Распятии. Впервые за долгое время он отрешился от земных забот рядом с безупречно державшимся Форбсом и гигантом Кваме, который вставал, садился и шумно падал на колени на долю секунды позже остальных прихожан, – точно неуклюжий эбеновый топляк (или крокодил, прикинувшийся бревном?) то всплывал, то снова погружался под зеркальную поверхность всеобщего благочестия. А когда все выстроились в очередь за причастием, Моррис подгадал так, чтоб оказаться рядом с Антонеллой, во время мессы сидевшей напротив. Но не смотрел на нее, не пытался ловить ее взгляд, даже не пробовал подражать отточенной грациозности движений истинно верующей. Просто стоял, склонив голову, а перед самым алтарем закрыл глаза, погрузившись в молитву. И пока на языке плоть смешивалась с кровью, губы слабо шевелились. «Дорогая Массимина, – молил он, – замолви за меня слово перед святыми угодниками и Девой Марией, дабы мог я спасти свою душу и искупить многие грехи мои». Просьба шла от сердца. Старые письма о выкупе, лежавшие в кармане, неизъяснимым образом приближали его к Мими.
Шевеля губами, Моррис чуть дольше задержался у алтаря, пока над ухом не прошелестели, словно по небесной рации, слова Антонеллы, возвращавшейся на свою скамью:
– Я так рада, Моррис, что наконец прояснилось это недоразумение. Я очень расстроилась, когда тебя забрали. Я ни минуты не верила, что ты замешан в чем-то нехорошем.
Единственное, что огорчало, – рядом угнездился один из братьев Бобо, и с виду он был, надо признать, куда краше младшенького.
Потом они еще пару минут поговорили на паперти с видом на деревенскую площадь и убогий памятник в стиле модерн. Дул весенний ветерок. Fratello Позенато был преисполнен мрачным удовлетворением: наконец эти черные получат по заслугам. Однако самое главное, что все ужасы кончились и жизнь продолжается. Моррис испытующе глянул на Антонеллу. Но к милым глазам уже – подступили слезы. Пытаясь загладить невольную бестактность, Моррис заверил: он не сомневается, что Бобо жив, и скоро все разъяснится окончательно. Вольно же полиции хватать людей и обвинять в самых жутких вещах, можно подумать, специально на потеху ненасытной прессе. А возможно, лишь оттого, что несчастные парни не белые. Господи, да карабинеры даже его пытались обвинить в убийстве бедняги. И все только потому, что партнерам иной раз случалось поспорить насчет руководства компанией. Можно подумать, всякая перепалка непременно должна закончиться смертоубийством. Да ведь и тело не нашли. Моррис печально улыбнулся. Но тут Форбс, как раз вернувшийся из туалета, впервые услышал новость об аресте эмигрантов и побелел как мел.
– Quid hoc sibi vult?[19] – прошамкал старик. – Невозможно! Только не Фарук!
Казалось, несчастный вот-вот упадет в обморок, так судорожно он вцепился в бортик фонтана – в ту единственную пядь, где не резвились грубо слепленные херувимы. Моррис был тронут до глубины души, когда гигант Кваме, до тех пор тактично державшийся в стороне от их компании, склонился над Форбсом, шепча слова утешения. Несколько секунд он мог наслаждаться необычайным зрелищем – толстые розовато-коричневые губы мягко шевелились рядом с пучком седых волос, торчащим из воскового уха. Будь он художником, непременно изобразил бы такую сцену. Впрочем, это, возможно, уже сделал Караваджо.
Из церкви вышел дон Карло и, отведя Морриса в сторонку, заверил, что сделал все возможное для преодоления бюрократических препон, как они и договаривались три недели назад. Эмигранты будут иметь все нужные разрешения до тех пор, пока «Вина Тревизан» предоставляют им работу и оплачивают медицинскую страховку. Моррис поинтересовался, чем отблагодарить за заботу, но падре ответил, что труды ради бедных не требуют воздаяния, ибо се есть долг каждого. Однако если Моррис когда-либо почувствует себя обязанным Создателю, Церковь возрадуется его лепте, поскольку самая большая проблема церкви Сан-Томмазо на сегодняшний день – выветренная кладка звонницы. Моррис удержался от неловкости, грозившей, если бы он с ходу полез за чековой книжкой, но сочувственно покивал и решил через неделю-другую послать анонимное пожертвование. Возможно, с небольшим огрехом в итальянском, но с пожеланиием аправить эти деньги на ремонт колокольни. Женский род вместо мужского – достаточно, пожалуй. Или напишет «миллион» с одним «л».
– Падре, – окликнул он, когда священник собрался уходить.
– Да, figlio mio.
Но воспоминания о тюремной исповеди были все еще слишком болезненны. Моррис умолк, глядя в глаза простодушному старичку. На миг показалось, что вся душа бросилась в лицо, вот-вот прорвет кожу – как было, когда он любил Мими. Она рядом.
– Вас что-то тревожит, сын мой?
Моррис обождал немного. Затем произнес с явным усилием:
– Меня беспокоит состояние моей свояченицы, падре. – Это была чистая правда. – Я бы очень хотел, чтоб вы были рядом с ней. – И добавил тише: – Боюсь, ее муж встречался с другой женщиной. – Заставив себя заглянуть в сморщенное лицо, он закончил: – Огромное вам спасибо, святой отец, за доброту. Вы воистину стали опорой всей нашей семьи.
– Благослови тебя Господь, сын мой, – сказал священник. – Понимаю, нелегко вам пришлось.
И Моррис вдруг подумал: не женись он так глупо и поспешно, из него самого вышел бы прекрасный духовник. Конечно же, у него есть что сказать людям, и он всегда был бы рад выслушивать их житейские проблемы. Строгое соблюдение обрядности для человека с его эстетическим вкусом – одно удовольствие. Да и с целибатом не возникло бы особых трудностей. Откровенно говоря, чем больше физических ощущений он получал от той неразберихи, что именуется – современным сексом, тем больше это обескураживало. Только плотская жизнь с Мими была настоящей святыней.