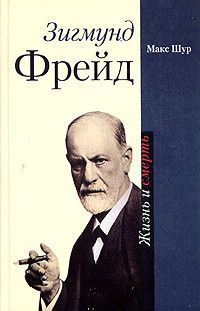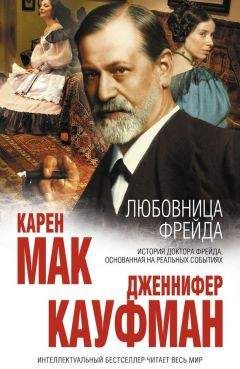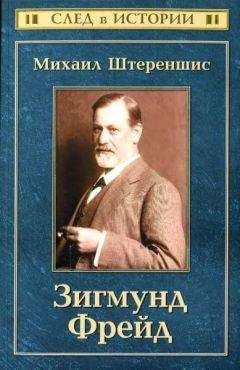Ознакомительная версия.
— А ты оставалась одна.
В один из таких дней, когда я вынесла стулья на террасу и помогла матери сесть на один из них, я заметила у перил мертвую ласточку. Увидев, как я что-то убираю в коробку, мать спросила:
— Что это?
— Ласточка, — ответила я, закрывая коробку.
— Ты будешь держать ее взаперти?
— Она мертва. Я ее выброшу.
— Мертва… Выбросишь… — повторила она и положила руки на подлокотники стула, будто желая опереться о них и приподняться. Потом повернулась ко мне. — Где Зигмунд?
— Приедет, — уверила я. — Он всегда возвращается с отдыха в конце сентября.
— В этот раз он опоздает, — заметила она.
— Нет. Он приедет в это же время.
— Он приедет в это же время, но опоздает.
Когда Зигмунд позвонил, я сказала ему, что мать хочет его увидеть. Она уже много лет была глуховата и ничего не могла расслышать в телефонной трубке. Пока я разговаривала с Зигмундом, она по моим словам понимала, что я говорю с ним, и смотрела на меня таким взглядом, каким смотрят пожилые люди, когда без страха, но с каким-то сомнением готовятся к смерти. Как только я положила трубку, она произнесла:
— Выведи меня наружу.
Я осторожно повела ее на террасу, поддерживая под мышки. Она, сгорбившись, сидела на стуле, положив руки на подлокотники, не опираясь на них, а судорожно держась за них, чтобы не упасть. Она долго молчала, затем произнесла слова, которые готовы были слететь с ее губ еще во время нашего разговора с Зигмундом:
— Значит, он не приедет… — Она еще больше съежилась на стуле. Вокруг нас парило от духоты, улица была пуста, мухи летали в воздухе. Мать вздрогнула. — Никогда еще не было так холодно.
Раньше, когда я была беспомощна, а она своими словами и действиями угнетала меня, я мечтала о том мгновении, когда она ослабнет физически, я ждала того времени, когда смогу отплатить ей, насладиться местью. Сейчас она была беспомощна, и я могла отплатить ей болью, но больше не существовало Амалии Фрейд, которая секла меня своими словами. В ее беспомощности я разглядела беспомощность моего детства и молодости, и всякое мое недружелюбное слово или действие, призванные причинить боль этому медленно умирающему существу, не будут местью ей, только издевательством над собой, своей памятью о девичестве, о девушке и женщине, которой я когда-то была.
В начале сентября правую ногу моей матери поразила гангрена. Когда я перевязывала ее, она смиренно смотрела на свежую рану. Она стала стучать палкой по полу, и я поняла, что она хочет выйти на террасу. Я вела ее, придерживая, она шла, припадая на одну ногу, опираясь на меня и на палку. Мы сидели и смотрели на улицу.
— Я голодна, — сказала она.
— Мы только что обедали, — напомнила я.
— Я изголодалась по еде моего детства. Хочу хлеба. Только хлеба.
Я принесла хлеб. Она подносила его к губам, слюнявила и больше роняла, чем глотала. То, что осталось от ломтя, она опустила на колени, туда, где лежали оброненные куски, и долго смотрела на хлеб. Затем подняла голову и сказала:
— Посмотри, как летит этот ребенок.
— Это не ребенок, — ответила я. — Это аэростат.
— Аэростат, — повторила она так, словно впервые слышала это слово. — Даже смотреть мне тяжело, — добавила она и закрыла глаза.
В одно мгновение ее руки, твердо державшиеся за подлокотники, ослабли, а голова медленно упала вперед, будто она кому-то кланялась. Заснула. Стоял теплый сентябрьский день, но я знала, что ей холодно, знала, что этот холод заставляет ее во сне видеть зиму и чувствовать мороз, ей снится, как она находится где-то одна и на нее падает снег. Я встала и вошла в квартиру, чтобы принести одеяло и накрыть ее. Вернувшись, я увидела, что на коленях у моей матери собрались воробьи, клюющие остатки хлеба. Она продолжала спокойно спать, возможно, чириканье птиц убаюкивало ее. Когда я приблизилась к ней, воробьи разлетелись. Я стряхнула крошки и птичий помет. Потом накрыла мать одеялом.
Когда она проснулась, уже смеркалось. Я помогла ей подняться со стула, отвела в квартиру и проводила в спальню.
— Останься со мной этой ночью, — попросила она.
И несмотря на то что за эти тридцать лет, прошедших после моего возвращения домой, мы немного сблизились, между нами сохранилась частичка ненависти, которая не давала мне лечь рядом с ней, на ту сторону кровати, где до своей смерти лежал отец.
— Я сяду, — сказала я, поставив кресло рядом с кроватью.
Мы провели ночь вместе, но едва ли произнесли хоть слово. Я ощущала, что она многое хочет сказать мне, но она молчала. Как голубое сияние окружает луну, ее окружали мысли и чувства, но ничто из них не было выражено словами. Я смотрела на нее и чувствовала, что это ее последняя ночь.
Я вспомнила ночи отчаяния моей молодости, когда мать с кровожадным наслаждением посыпала солью открытые раны моей души, вспомнила, как в те ночи я мечтала об этой ночи — ее последней ночи — тогда, за десять тысяч ночей до этой ночи, я жаждала мести, и единственной местью могло быть мгновение ее величайшего бессилия, ее бессилия перед смертью, мгновение, когда бы я напомнила ей о моем бессилии, о ее жестокости и моем страдании.
И сейчас я смотрела на эту Амалию, которая не имела ничего общего с той Амалией, бессилие этой женщины напоминало мне о собственном давнишнем бессилии, а я не могла или не хотела пробуждать в себе жестокость, которая была в ней и которой она заставляла меня тонуть все глубже и глубже, жестокость, благодаря которой — если бы действительно ее пробудила — я бы стала ее истинной дочерью не только по крови, жестокость, которая бы заставила ее страдать из-за ее собственной жестокости, моя жестокость, которая бы наслаждалась ее отчаянным покаянием. Я смотрела на нее, она — на меня. Мы молчали.
К концу ночи она заснула. Сон, ее последний сон, был спокойным, коротким. Перед пробуждением она вытянула руку, словно искала кого-то. Открыла глаза. Я не могла понять этот взгляд — она смотрела не на меня, а на другую женщину. Она протянула ко мне руку, я подала ей свою.
— Мама, — сказала она мне.
Когда я услышала, как кто-то в первый и последний раз в моей жизни сказал мне «мама», времена смешались: когда-то ее мать видела в ней свою мать, а во мне — свою дочь Амалию, сейчас моя мать думала, что я — ее мать. Она держала меня за руку некоторое время, затем глаза ее закатились, она захрипела, на губах выступила пена. Я позвала врача; он пришел, посмотрел на мать и сказал, что сегодня она умрет. Я сидела у ее постели, держала ее за руку, слушала ее хрипы. Где-то в полдень ее рука отпустила мою. Я закрыла ей глаза, встала, вышла на террасу. Шел тихий сентябрьский дождь, и я отнесла в дом два стула, на которых этим летом мы с матерью проводили дни.
Проходили месяцы со смерти матери, но никто не навещал меня в доме, где я осталась одна. Иногда я ходила к Розе, которая большую часть года жила на курорте. По воскресеньям мы все собирались у Зигмунда, а он после смерти матери не приходил ко мне по утрам в воскресенье. Раз в месяц я делала просительный жест — протягивала руку, чтобы получить от брата денег на жизнь.
Ночи стали совсем другими, в них сгущалась тишина, я боялась, что она заговорит меня. Я вставала, равнодушная к дневному распорядку, пыль стелилась по полу и подоконникам, на стенах и люстре висела паутина, посуда неделями оставалась немытой, на ней завелась плесень. Я питалась, как бездомная собака, не имея ни определенного времени, ни места для еды, я не знала, где и во сколько я вгрызалась в пищу, жевала, глотала. Днями, которые незаметно переходили один в другой, я брела по улицам с опущенным взором, каким смотрят одинокие, будто думают, что уродство мира отпечаталось на их зрачках.
Прошли и осень, и зима, а потом, как каждую весну, я вынесла на террасу два стула. Той весной и тем летом я сидела на террасе одна и больше не смотрела на улицу, только на пустой стул. Осенью, когда похолодало, я убрала свой стул, а мамин оставила снаружи. Смотрела, как иногда ветер проносил по нему сухой лист или как какая-нибудь птица — воробей, ворон или голубь — садилась на него, чтобы отдохнуть, наточить клюв о металлические подлокотники или опорожниться. А однажды, выйдя на террасу зимним утром, я увидела, что стул матери засыпал снег, заполнил ее опустевшее место.
В один из таких одиноких зимних дней подал голос мой дверной звонок — его так давно никто не использовал, что я забыла о его существовании. Я пошла к двери, повернула ключ и открыла ее. На пороге стояла Клара Климт. Миновало больше десяти лет с тех пор, как мы с двенадцатью Густавами навещали ее в клинике Гнездо.
— Ты помнишь меня? — спросила она.
Я помнила, несмотря на то что Клара, которую я знала, и Клара, стоявшая передо мной сейчас, были двумя разными женщинами, а между ними зияла та бездна, которая отделяет берег безумия от берега нормальности. Та молчаливая и неподвижная Клара, которую я видела десять лет назад, была той же Кларой, которую я встретила во время ее прогулки по Вене с маленькими Густавами, Кларой, с которой я жила в клинике Гнездо, Кларой, с которой я познакомилась за годы до того, как жизнь открывалась перед нами и тешила нас обещаниями. Эта Клара сейчас стояла на другом берегу; кроме десяти лет, пролегающих между двумя нашими встречами, небольшого смещения челюсти и другого взгляда, в ее облике были заметны изменения, происходящие при перемещении с одного берега на другой.
Ознакомительная версия.