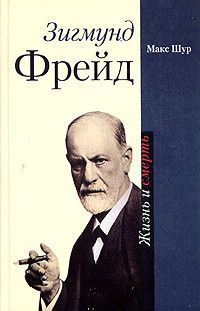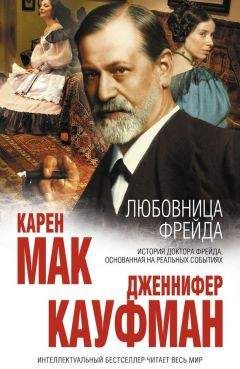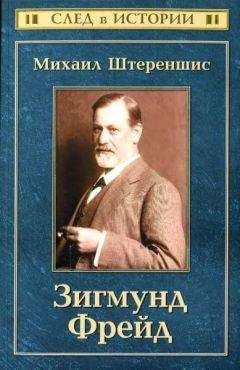Ознакомительная версия.
— Ты помнишь меня? — спросила она.
Я помнила, несмотря на то что Клара, которую я знала, и Клара, стоявшая передо мной сейчас, были двумя разными женщинами, а между ними зияла та бездна, которая отделяет берег безумия от берега нормальности. Та молчаливая и неподвижная Клара, которую я видела десять лет назад, была той же Кларой, которую я встретила во время ее прогулки по Вене с маленькими Густавами, Кларой, с которой я жила в клинике Гнездо, Кларой, с которой я познакомилась за годы до того, как жизнь открывалась перед нами и тешила нас обещаниями. Эта Клара сейчас стояла на другом берегу; кроме десяти лет, пролегающих между двумя нашими встречами, небольшого смещения челюсти и другого взгляда, в ее облике были заметны изменения, происходящие при перемещении с одного берега на другой.
— Помню, — ответила я.
Она обняла меня.
Мы зашли в гостиную. Она посмотрела на дверь, ведущую на террасу, и сказала:
— Помнишь, как однажды мы стояли тут, на террасе, а ты посмотрела на тротуар и сказала: «Поскорее бы настал тот день, когда и я вот так смогу помогать своему ребенку ходить».
— Помню, — повторила я и почувствовала сухость в горле. Я закашлялась.
— Ты больна? — спросила она.
— Больна, — солгала я.
— Я буду за тобой ухаживать. — Она обняла меня. — Я буду сидеть здесь с тобой и ухаживать. Я ухаживала за своим братом, когда он болел. Я ухаживала за ним, а он все равно умер. Ты не умрешь. В этот раз я буду ухаживать лучше. Ты не умрешь.
Я спросила ее, голодна ли она. Мы пошли на кухню, и пока ели овощной суп, оставшийся со вчерашнего дня, она рассказывала мне о пациентах клиники, которые до сих пор там жили. Наполняя ложку остатками супа, Клара произнесла:
— Я хочу извиниться перед тобой.
— За что?
— За то, что не разговаривала с тобой, когда ты приходила в больницу. Я хотела поговорить, но не могла. — Она коснулась моих пальцев. — Прости меня.
— Ты не совершила никакой ошибки. Тебе не за что просить прощения.
— Иногда, когда мне страшно засыпать одной в комнате, я снова немею и каменею. Тогда меня выносят из нашей палаты и кладут в одну из тех, где кричат, кричат, кричат. Чужие крики — наказание за мое молчание. Я лежу и чувствую, как задыхаюсь, и не знаю, что именно меня душит — чужие крики или собственное молчание. И когда это удушье становится непереносимым, я начинаю говорить. Не много, всего слово или два, меня слышат доктора или санитары и возвращают в нашу палату.
Она встала, собрала со стола крошки, подошла к окну, открыла его и выбросила на улицу.
— Птицам, — сказала она и закрыла окно. — Густав всегда их подкармливал. — Она улыбнулась. С ее лица вдруг исчезли следы времени, и перед ее взором появился брат. — Ты помнишь Густава?
— Помню, — кивнула я.
— И я помню. — Она посмотрела в окно на воробьев, клевавших крошки. Начала быстро говорить ровным голосом: — Густав бегает по комнате. Густав мочится позади дома. Густав рисует углем на столбе ограды. Густав мастурбирует. Густав кричит на мать, когда та ударяет меня головой о стол. Густав показывает мне рисунок, на котором женщина ласкает себя между ног. Густав дрожит, пока мы едим. Густав умирает. Мы хороним Густава. — Она повернулась ко мне. — Доктор Гете сказал мне, что с того момента прошло тринадцать лет. — Она недоверчиво покачала головой. — Неужели и правда прошло столько лет?
— Правда, — подтвердила я.
— И доктор Гете умер.
— Умер?
— Да. В прошлом месяце. Ты помнишь, когда… — Она стала рассказывать, как мы учили доктора Гете вязать.
На улице темнело. Мы вошли в мою комнату и долго разговаривали, а Клара почти все свои предложения начинала с «Ты помнишь?..». Она возвращалась к прошлому, сбегала к нему или гналась за ним, боясь, что оно покинет ее, так же как когда-то бежала от настоящего в какое-то свое будущее, наступления которого жаждала и которое хотела создать. Мы разговаривали до тех пор, пока не почувствовали, что наши глаза закрываются от усталости.
Оставив Клару на моей кровати, я легла в комнате, где раньше спали мои мать с отцом. Мысль о том, что за все эти годы я ни разу не навестила ее в больнице, не давала мне уснуть. Не успокаивала мою совесть и та трусливая мысль, что она конечно же оправдала меня, так как считала, что ее молчание в день нашей встречи испугало меня, полоснуло меня, я знала, что она не считала себя сильнее моего страха перед ее молчанием и окаменелостью, я должна были прийти к ней, спросить, как у нее дела, услышать, хотела ли она тогда мне что-то сказать или продолжала бы задыхаться в молчании.
Наступила полночь, когда скрипнула дверь и в спальню моих родителей вошла Клара. В руках она держала подушку с моей кровати.
— Мне страшно спать одной, — сказала она, приблизившись ко мне. Легла рядом со мной на кровать и положила голову на подушку, которую принесла из моей комнаты.
Я не спала всю ночь и представляла ее ночи, пыталась услышать те ночи, потому что мрак поглощал все, что можно было увидеть, и слушала крики, которые распарывали темноту, слушала тех, кто был заточен в своем безумии, мешая его с безумием других. Чей-то голос звал своих детей, чей-то голос вопил, что он горит и пламя охватывает тело, слушала и хриплый голос женщины, которая повторяла, как убила своего мужа.
Среди тех голосов не было голоса Клары Климт, среди криков тех ночей, которые переливались друг в друга и копились годами, среди моих попыток услышать ее ночи, Клара оставалась нема, Клара томилась в тишине, Клара мечтала всего об одном маленьком кусочке этого мира, где она могла бы в безопасности приклонить голову и заночевать.
Теми ночами я слушала, как Клара учащенно дышит, как плачет, я слушала, как она молится, хотя и не знает, к кому обратиться с молитвой, потому что давно отреклась от Бога — с тех пор, как Бог отрекся от нее, слушала, как Клара обрывает молитву, перестает плакать, шмыгает носом и выдыхает. И потом слушала медленное дыхание, которым она будто вытесняет из груди какую-то боль, этот клубок, наматывающийся вокруг вопроса — зачем она существует, если существует так, и чувствует себя счастливой оттого, что нить все еще обвивается вокруг этой мысли, потому что оголенная мысль — без этого клубка, была бы невыносима. А потом ее одолевает усталость, вызванная попытками совладать со звуками; вой и крики психиатрической клиники Гнездо словно отдаляются от нее и перестают быть человеческими голосами, а становятся звуком, наносящим удар человеческой боли, превращенной в гнев, по гонгу судьбы. Той ночью я слушала эти звуки в своем воображении, пока лежала без сна и ждала, когда закричит Клара, чтобы ответить во сне голосам, которые мучают ее наяву, голосам, которые не дают ей уснуть и к которым она настолько привыкла, что без них мрак пугает ее. Она спала спокойно. Утром, проснувшись, сказала:
— Как хорошо спится на твоей подушке.
Мы лежали на большой кровати, на которой когда-то спали мои родители, и смотрели друг на друга. Клара рассказывала о сыновьях своего брата, о том, как маленькие Густавы — она их до сих пор называла «маленькими», хотя они были уже взрослыми мужчинами, — навещали ее в клинике Гнездо, рассказывала об их женах и детях:
— Когда они приходят со своими детьми, мне кажется, будто с ними приходит весь мир — кто-то недавно начал говорить, у кого-то вырос зуб, кто-то упал и расшиб колено, кто-то научился управлять воздушным змеем, и мы сидим весь день в парке и смотрим в небо, — сказала она и посмотрела сквозь окно на небо. Потом повернулась ко мне. — Иногда мне так хочется, чтобы ты снова вернулась в Гнездо. Чтобы мы вместе поспали ночь в нашей палате. — Она взяла меня за руки. — Я сейчас уйду. Уйду назад, в Гнездо. Там мое место. Так говорят мне врачи, когда я прошу их отпустить меня. А сейчас я сбежала. Но там мое место. Поэтому я возвращаюсь туда.
Клара погладила меня, и пока ее ладонь все еще лежала на моей голове, она подняла другую руку, провела ею по своим поредевшим волосам, погладила себя. Я обняла ее.
— Я опять сбегу, чтобы проведать тебя. — Она выдохнула эти слова мне в шею. Потом направилась к двери, повернула ключ и приоткрыла ее. Обернулась. — А сейчас я уйду. Там мое место, — произнесла она и, прежде чем переступить порог, вспомнила что-то и остановилась. — Можно мне взять твою подушку? — спросила она. — На ней так хорошо спится.
Прошло много времени, прежде чем я навестила Клару. Когда я вошла в ее палату, она сидела на кровати с подушкой в руках.
— Пойдем в комнату для смерти, — сказала она.
Комната для смерти — я вспомнила, что так мы называли помещение, куда клали всех жителей клиники Гнездо, которые вскоре должны были умереть. Клара взяла меня под руку, в другой руке она держала подушку, и мы покинули палату.
— Добрая Душа умирает, — сказала Клара, пока мы шли по коридору.
Ознакомительная версия.