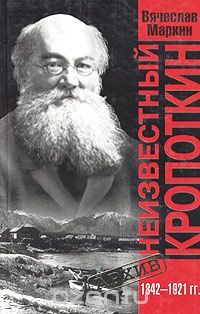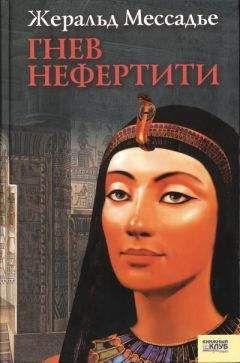Эспри она конструирует из вечного соглашательства и веселой подвижности. Она — живая и от природы, но временами кажется, что ее кто-то подстегивает, кто-то говорит ей в ухо, чуть скрытое комковатой рыжиной (у нее лохматая имитация «каре»): «вперед, ты должна» — встрепенувшись, она снова производит огромное количество действий — дом, семья, кружок один, кружок другой, новый проект на работе, курсы повышения квалификации, планы на отпуск (муж болеет, надо побаловать).
Моника никогда не говорит «нет». Она, даже не дослушав, выпаливает «здорово, конечно», а затем только наращивает вокруг осторожные «а, может быть», «а, что если».
Однажды еду в нашем горнолыжном домике взялся готовить я (был мой день рождения). «Да, конечно», — отступила она от плиты, присела на диван, взялась за книжку, но усидеть, конечно, не смогла, и вскоре уже стояла рядом, мешая мне чистить картошку (а затем обсыпать розмарином, облить маслом, поставить в духовку), предлагая помощь, надоедая, по-правде говоря — Моника иногда забывает, что иностранцам трудно бывает сосредоточенно заниматься сразу двумя непростыми занятиями: готовить на чужой кухне и пытаться на иностранном языке уследить те тонкие связи, которыми соединены самые разные темы — будущее Юлии — путешествие по Шотландии — горестная история коллеги, которая развелась — счастливая история безработного, которому Моника нашла занятие — пруд в их саду, который надо вырыть заново — козы, которых она бы снова завела, но времени нет — нет же совсем времени — «годы не те».
Искусством ее мужа — слушать не все, а только главное — я не овладел. А может быть, я не распознал еще, что там у нее должно быть главным — ведь мы же только друзья.
В общем, в итоге мясо с картофелем, салат капустно-морковный и морс готовила она, а я только пыжился.
Как многие болтливые люди, Моника не дает увидеть свою суть, давая лишь понять, что говорит, скорее, сама с собой, глядя куда-то внутри себя, улавливая только сильные отзвуки внешнего мира, какие-то особенно четкие сигналы, и, согласная всегда говорить «да», имитируя полнокровный разговор, она может сыпать банальностями — например, тем газетно-публицистическим сухостоем, который принято выказывать успешным немецким женщинам ее возраста.
Она отзывается на знакомые слова, а не на новые смыслы. Самые удачные ее формулировки мне кажутся заученными:
— Говори сейчас, — любит она повторять своему супругу-молчуну. — Когда я умру, ты будешь жалеть, что мог сказать, но не сказал.
Он не протестует, но и книжной учености следовать не старается, оставаясь ровно таким, как был: суховат, молчалив, начитан.
Как не разгадал я толком тайны Моники, так неведомо мне и то, как они познакомились, почему стали мужем и женой. Ни он, ни она о знакомстве своем никогда не говорили. Моника утверждала только, что была отчаянно влюблена, но, глядя на исполнительного Вильфрида, мне трудно согласиться, что он способен стать причиной любовного отчаяния. Сюжет напрашивается менее драматический.
Он тоже романтик, но по-мужски: любит объезжать свои мотоциклы, у него их несколько, готов ездить часами — чтобы ветер в лицо. Молча.
«Привлекать мужчин», — сказала она.
Как и большинство немок в районе пятидесяти, всей своей жизнью Моника старается транслировать исконное, неотчуждаемое право женщины на равноправие: она много работает, она состоялась, как специалист. Смысл, заключенный в глаголе «привлекать», был совсем из другого сценария — женщины-цветка, приманивающего своим ароматом — «эспри» — сосредоточенных мужчин-шмелей.
Ее мать была домохозяйкой: вырастила двоих детей, подрабатывать бралась, только в кратковременные моменты безденежья. Умерла по немецким меркам рано. В шестьдесят с небольшим.
Отец Моники, немного карикатурный дед с тросточкой, приходит к ней по воскресеньям из своего домика, расположенного неподалеку; они говорят на фризском — гортанной смеси немецкого и голландского. Он болен (рак), но держится. Их ссоры давно в прошлом: он нуждается в дочери, дочь считает себя обязанной помогать ему, оба знают это, и ведут себя с виртуозной дипломатичностью: если бы я не знал прежних сложностей Моники, то, участвуя в чаепитиях в саду их дома, вообразил бы гармоничное соединение поколений: дед — дочь — внучка.
Внучка с дедом дружна. А Монике отец мешал. Она рассказывала, что он не давал ей денег на образование; по его планам, закончив школу, она должна была выучиться чему-нибудь женски-необязательному, выйти замуж, родить детей — желательно побольше — уйти на полставки, построить с мужем красивый дом, вести хозяйство, состариться также, как случилось это с его женой, и с его родителями, и предками тех — также живших в этих, плоских, как тарелка, местах недалеко от Северного моря.
Ее несогласие было бурным, но непоследовательным: Моника пошла на необязательные курсы и рано вышла замуж, но потом стала заочно учиться в университете, а дочку родила, когда точно стало ясно, что в большой город они с мужем не переедут, потому что в этом, маленьком, инженеру проще найти хорошую работу, а она — его жена.
Все та же логика: сначала «да», а потом эрозионное «…а может быть», «…а что, если».
Дочь Моники уверена в себе больше матери, она очень хорошо учится и главную трудность в жизни видит только в том, что ей все предметы даются чересчур легко — непонятно, чем ей следует заниматься во взрослой жизни. Она легко разгрызает математические задачки, она с чувством играет на виолончели, она неплохо поет (в отличие от матери, голос у нее не только громкий, но и интересно окрашенный). Единственный упрек, который я могу сформулировать: Юлия немного искусственна, у нее несколько заученный, затверженный образ мыслей — нет живости ума, небанальности, которая у талантливых детей проявляется сама собой, а у взрослых становится результатом долгой умственной работы. Дочь инженера.
Прошлой осенью я снова гостил у Моники (ее вечно много, поэтому мне кажется, что я приезжаю не к ее семье — молчаливой, акварельно исчезающей — а именно к ней). Юлия была необычно весела: много и невпопад смеялась, одета была с шиком обезумевшей гувернантки, неумело накрашена — слишком густо и темно для натуральной блондинки с нежной белой кожей. Я вспомнил тот разговор об «эспри», пожелал мысленно, чтобы девочка нашла свой тон, свою краску, свой голос, не пытаясь неумело копировать мать, которая, в свою очередь, не очень-то изящно выращивает в себе невротически-веселое «эспри».
Моника все время куда-то бежит, она словно сдает экзамен: это свойство, обычное, например, у жен нуворишей, чувствовать в ней очень странно.
Я не понимаю причину ее суеты. Моника за все берется, она все стремится довести до конца: она хочет быть и специалистом, и матерью, и женой, и хозяйкой, и благотворителем, и певицей — и, не умея останавливаться, однажды уже лечилась в клинике от нервного истощения. Она не хочет останавливаться, и это, наверное, правильно — единственное, чего я боюсь, не померла бы, зарапортовавшись, не заболела б.
Жалко. Она мне не чужая.
— Скоро я брошу Москву и перееду в Берлин. Тебе будет у кого пожить в столице твоей родины, — говорю я Монике.
Она смеется, торопливо благодарит, слушая — я понимаю это даже по телефону — только себя, с собой одной ведя какой-то не совсем понятный мне спор.
Недавно была концерте, где пела под настоящий саксофон и, конечно, облажалась, хотя ее все хвалили.
— Им по двадцать, а мне 50. Уму непостижимо!
Думая, что понял ее, я рассказал историю Ингрид Нолль, немецкой домохозяйки, которая вначале вырастила детей, а затем только, в 56 лет, взялась за исполнение своей мечты: она начала писать детективы, и книги ее переводят теперь на иностранные языки, включая русский.
Меня Моника не услышала: считая, что должна восхититься писательницей, она бурно это сделала; я не стал делиться с ней своей мантрой, которая мешает мне свалиться в уныние — начинать сначала никогда не поздно, пока живешь — живи, действуй, будь…
Прошлой необычно погожей осенью, мы весь день катались с Моникой на велосипедах по Восточной Фризии, от деревушки к деревушке, вдоль моря, велосипедными дорожками, мимо идиоток-овец, выхаживающих по зеленым дамбам в своих свалявшихся желтых шубах. Моника сноровисто крутила педали, подробно рассказывала историю этого края, на почти крайнем немецком Севере, где живет ее род уже давным-давно: там — еврейское кладбище (остались только покосившиеся довоенные надгробья, в войну всех вывезли и поубивали), а там — церковь, которая «пляшет» (подвижный грунт, сильно ниже уровня моря), а выросла она на хуторе (тоже недалеко), а в школу пошла… Она была оживлена, но без всякого старания — излучала несуетливую уверенность, ровный насыщенный оптимизм, чего я прежде в ней не замечал и даже не думал, что она на такое может быть способна. Я боялся сверзиться с велосипеда (и пару раз опасно вильнул), но все же поглядывал на плосковатое, немного обезьянье личико, на рыжие лохмы с заплутавшим в них солнцем; я думал, что в другом месте — если б уехала, как хотела, если б давно отдалилась от родного дома — вряд ли была бы она счастлива в такой же степени. Или несчастлива в той же, минимальной, в общем-то, мере.