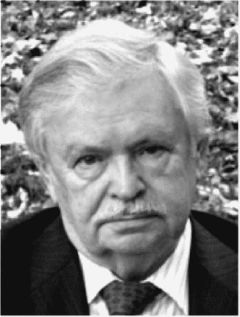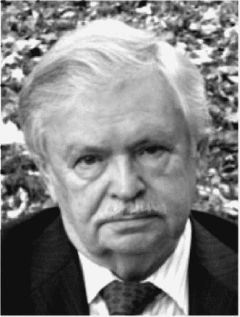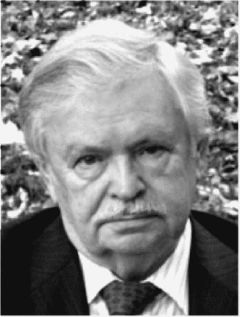Он ушел на дно, мгновенно выпустив воздушные пузыри.
Вода будто поглотила Борину тайну.
Глебка долго сидел на крутом берегу, свесив ноги к воде. И хотя всё вокруг него в светлой летней ночи как будто едва шевелилось – дыханием, крылышками, лапками и еще чем-то очень маленьким, – это, может, кузнечики наконец-то вытягивали вдоль тела свои худые, уставшие, наскрипевшие за день ноги, – Глебка чувствовал себя глухо, одиноко, будто оказался на дне черного колодца.
Не верил он ничему и никому, но прежде всего любимому брату Бори-ку. А раньше во всем и всегда ведь верил!
Когда маленькими были, Борик, кажется, за всю Глебкину жизнь ответственность на себя принимал. Но куда все это уплыло, спряталось? Неужто просто взрослое время такое? Оно самых близких разводит, отдаляет. Любовь превращает в простой интерес, в лучшем случае оборачивает заботой – на тебе денег, на – подарок, на – новые джинсы. То, отчего людям реветь и драться хочется, вдруг превращается в промтовар, будь он проклят!
Глядя в темноту, Глебка будто старался разглядеть не что-то конкретное, а правду и жизнь. Пробовал объяснить себе, что же произошло с того самого звонка по мобильнику…
Да, какая-то чудовищная беда. И не сказал ведь о ней Боря ничего всерьез. И те страшные похороны чьих-то останков. И прощание навеки с Борей – горе горькое, пройденное по полной, на всю тысячу процентов. И вдруг чудесное исправление жизни – за чей-то счет. Ошибка, которая бывает раз на сто, может быть, тысяч, а может, и реже.
Но дальше, дальше?… После этой невидимой отсюда войны, после возвращения, когда, казалось, все слава Богу? Ведь не слава же Богу, а наоборот! Что-то настало новое, тайное, страшное, может, Господи прости, страшнее, чем самое страшное.
Из Глебкиной головы никогда не исчезал этот телевизионный сюжет: убит банкир, кажется, Канор. Или, может, Кенор. Сколько и каких только убийств не показывают по телику, и все уже привыкли, никого это не страшит. Если вдуматься, смерть вообще стала с людьми запанибрата. Вон ящик извещает: сорок тысяч людей покончили жизнь самоубийством! За один год. И еще твердят, мол, не волнуйтесь, показатели снижаются! Так что там какой-то один банкир, совершенно Глебке неизвестный! Телевидение показало: лежит человек в снегу, а рядом бегает его собака. Значит, стреляли издалека. И Борик как раз тогда исчез первый раз со своей винтовкой. В ответ ему прислали машинное масло. А он явился, как ни в чем не бывало, следом. Глебка закопал деньги в четырех углах огорода. И нельзя хоть о чем-нибудь спрашивать Борика – бесполезно! Кто откроет его тайну?
Ну, а почему надо связывать его поездку с тем банкиром? Может, он совсем по другим делам ездил? А сто тысяч? За три дня? Но ведь и банкир-то тот миллионщик, почти олигарх, за него бы больше, небось, заплатили?
Да сто тысяч можно же, наверное, и за другое получить! Выиграть в казино или как оно там? Взятку получить. Но Боре-то за что? Чем он управляет и за что такую взятку?
А в общем, ясно было, будто никакая сейчас не ночь, а ясный день: снайпер получает большие деньги за снайперские дела. А если его лупят и он ноги уносит откуда-то – то ведь тоже за снайперские дела. Видать, не попал, или вовсе не стал. И дом загорелся сразу с четырех сторон – тоже неспроста: кого-то раздосадовал. Или чужую тайну держит, значит, ее надо зарыть, эту тайну. Сжечь.
Понял только сейчас по-настоящему Глеб, зачем Борик завел речь об Иностранном легионе. Там все это происходит в открытую. Почти официально. Да если и не официально, то там ты не один, а выходит, у тебя есть поддержка. Здесь-то он одинокий волк, если все, что навыдумывал Глебка, правда.
Его передернуло. Он представил, что целится в человека. Через этот оптический прицел. Человек бежит по дорожке, рядом брыластый боевой пес, который близко никого не подпустит, а выстрел прозвучит как негромкий хруст ветки в лесу…
Глебка задумался, себя проверяя и переспрашивая.
Опасно? Конечно.
Ужасно? И с удивлением сказал себе: нет!
Сколько еще бегает их, этих банкиров! И пока они существуют, всегда будет, наверное, спрос на их наказание – ведь наверняка все они жулики, и вокруг них, пожалуй, целая толпа тех, кто хочет, чтобы с ними поделились.
Так что Боря просто как бы стрелковый работник, вроде того. И почему, собственно, не может быть такой должности? Пусть редкой, не на каждый день. Вон прикатили же мотоциклисты, разворотили их бережок, поубивали все живое, от кузнечиков до птенца малиновки, а чем они лучше всех – эти богатые! Всякие там рокеры и брокеры!
Глебка спросил себя во тьму:
– А ты бы смог?
Очень хотел он, даже старался ответить – да! Но он же сам себя спрашивал, в ночной темноте, один на один, и врать, опять же самому себе, никто не требовал.
Хотел сказать самому себе – да. Но только вздохнул.
Хотел домой идти решительным, мужским шагом, Бог с ними, этими кузнечиками и бабочками, если захрустят под ногами – но пошел осторожно, нарочно пошумливая, и какой-то случайной веточкой потыкивая в траву перед собой, упреждая малую тварь о своем движении во тьме.
Вышел на растоптанную дорогу и вздохнул облегченно. Но на душе еще тяжелее стало.
Не знал Глебка, как жить.
Часть седьмая НЕ БОЙСЯ, МАЛЬЧИК!
1
Снова время съежилось, остановилось, как после похорон запаянного гроба. Мама с бабушкой ждать не уставали, видать, уж так устроены женские сердца, а Глебка внушил себе, что все кончилось. Откуда явилось к нему это почти твердое убеждение, он не знал, а просто физически слышал, как внутри него что-то с болью сгорает, что-то обламывается и проседает, образуя пустоту – знак одиночества. Знак утраты.
Он тайком, беспричинно вроде, плакал, узнав, что плач бывает сухой, без слез, похожий на подвывание – поначалу беззвучное. Вдруг в самом неподходящем месте и в неожиданное время начинаешь чаще дышать, где-то в бронхах скапливается пробка застоялого воздуха, и когда пробуешь вытолкнуть ее наружу, она не выталкивается, становится душно, нечем дышать. Он хватал воздух ртом, глотал его, и это будто бы раскачивало его, наконец, легкие впускали порцию кислорода – вдыхая, он тут же делал выдох, и это его сгибало, раскачивало, звук, похожий на стон, рвался из горла, и он хы-кал, давился, снова хыкал.
Из него выбирался придушенный звук, который лучше бы не удерживать, а отпустив, крикнуть. Хорошо бы заплакать, но что делать, если не получается?
И вот выходит, что мучает его это хыканье, душнота, потом подвывание, иногда срывающееся в крик, а то и в рык. И слезы без слез. Плач, похожий на вой. Какая-то нехорошая примета, предчувствие произошедшего вдалеке.
Отлетали в минувшее не недели, а месяцы, заканчивался одиннадцатый класс, и военкомат выдал Глебке, после разных комиссий, белый билет, потому что у него оказалось плоскостопие.
Примерно через год после пожара, вернувшись с работы, мама сквозь слезы сказала, что Хаджанов просит с нее двадцать тысяч, да не в рублях, а в долларах, потому что, оказывается, Борик внес такую же сумму в виде аванса за однокомнатную, правда, для Марины, квартиру. Наставало время: или доплатить, или забрать аванс. И маме ничего не оставалось, как забрать то, что дал Борик, – откуда у нее такие деньжищи?
Глебка страшно заругался, почти как Боря, когда его сшибало время от времени – даже позволил грубые слова. Мама непонимающе поразилась, утёрла слёзы:
– Да ты в уме ли, сынок? Где мне взять-то эти двадцать тысяч?
– Это мое дело! – воскликнул Глебка.
Когда стемнело, раскопал две коробки, вынул отсыревшие сверху пачки, отдал их матери.
Не стал вдаваться в разговоры. Сказал строго:
– Боря велел!
– Откуда ты знаешь? – попробовали было мама, а Глебка оборвал ее, повторив:
– Боря давно велел!
Кроме этой квартиры, легла на них еще одна забота – пожарище. Мама то ли сама куда ходила, то ли ее опять вызывали следователи, но ей удалось, сказавшись дальней родственницей, восстановить Маринкины документы на владение сгоревшей избой, но главное-то – землей. А раз так, то за землей этой требовался уход. Короче говоря, или стройся, или продай, а сейчас нужно было участок очистить от мусора, головешек и заплатить какой-то налог.
Мама выпросила санаторский грузовик, уговорила двоих охранников, и они за обычную русскую плату – сколько-то там бутылок – все собрали и отправили на свалку.
А раз было это еще по ранней весне, то к окончанию Глебкиных экзаменов, к концу июня, усадьбу крепко затянуло крапивой, репьем, иной всяческой растительной заразой, заодно скрыв уродство пожарища. Забора теперь не было, так что скоро участок стал местом проходным, по нему жильцы соседних больших домов протоптали тропинки, и о куске Маринкиной собственности почти все забыли.