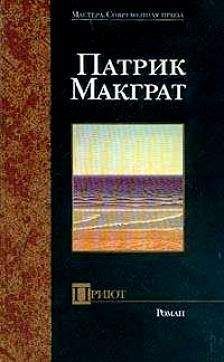Стоя в дверях своей комнаты, она смотрела, как я иду к выходу – элегантный пожилой мужчина с папками под мышкой и бременем руководства на плечах. Ее участие меня тронуло. Она была моей пациенткой, но притом женщиной, и я не был слеп к ее женским достоинствам. В последние дни я не раз представлял ее в своем доме, где раньше она часто бывала, среди моей мебели, книг, картин. «О, ей самое место среди этой утонченной обстановки, там бы она чувствовала себя гораздо лучше, чем здесь», – думал я.
Теперь Стелла получила возможность в определенное время дня прогуливаться по террасам женского отделения и вовсю пользовалась ею. Стояла весна, и она любила смотреть на окружающую местность, набросив на плечи пальто, так как даже в ясную погоду бывало еще прохладно и зачастую ветрено. Заводить дружбу с пациентками в новой палате она не спешила, считала, что лучше пусть это произойдет постепенно, поэтому держалась с некоторой отчужденностью. Было известно, что она жена доктора Рейфиела, в недавнем прошлом заместителя главного врача, и что доктор Клив – ее старый друг. Собственно говоря, известна была вся ее история, тем более имело смысл напускать на себя некоторую таинственность.
Стелла постепенно входила в больничную жизнь, и ее таинственность развеивалась. Она сохраняла отрешенный вид, но не доводила его до нелюдимости. Держалась спокойно, с достоинством глубоко скорбящей женщины, а не героиней викторианской мелодрамы. Я наблюдал, как на ее лице появляется легкая печальная улыбка, и видел, что служащие и пациенты отвечают на нее уважением, даже почтительностью. Одевалась она в черное, в темные тона синего и серого, всегда ходила с книгой, часто посещала больничную библиотеку.
Видя это, я считал, что Стелла исцеляется, что в самых недоступных уголках сознания мужественно переносит случившееся на Кледуинской пустоши. Виделся я с ней дважды в неделю, и, когда упоминал о гибели Чарли, она всякий раз давала мне понять, что думает в основном об этом, размышляет об ужасе случившегося, что груз вины тяготит ее душу и вызывает в ней глубокие перемены. Она начала производить впечатление благочестивой, проходящей обряд очищения женщины. Казалось, глубокое раскаяние в своем ужасном поступке сжигает ее личность, будто кислота, и вызывает к жизни нечто новое. Таким образом, больница превращалась в монастырь, а Стелла – в даму с глубокой скорбью, и монахи относились к ней так, чтобы она могла совершать свое духовное путешествие в уединении.
На террасе Стелла облюбовала одну скамью и взяла за правило сидеть там ежедневно в одно и то же время, между тремя и четырьмя часами. Изредка к ней подсаживалась какая-нибудь пациентка или санитарка, но чаще всего она бывала одна. Сидела, накинув на плечи пальто, спокойно озирала окружающую местность, курила и привлекала внимание пациентов, работавших в садах на террасах внизу. Одним из них был бодрый молодой человек с густой гривой черных волос; делая передышку, он всякий раз смотрел на холм, где одинокая, одетая в темное женщина сидела в задумчивости между тремя и четырьмя часами.
Когда мне сообщили об этом, я встревожился. Я не хотел, чтобы кто-то мешал моей работе со Стеллой в этот сложный период выздоровления, особенно этот молодой человек, психопат по имени Родни Маринер. Он был одним из моих пациентов. Я немедленно вывел его из состава рабочей группы и поместил в корпус для неизлечимых. Это было чисто предупредительной мерой.
Лето обещало снова быть жарким. Дни стояли ясные, безветренные, с долгими теплыми вечерами, напоенными благоуханием первых цветов. Странно было думать, что почти год назад Стелла шла по террасе со мной и Максом после больничных танцев; с тех пор будто протекла целая вечность. Мне было любопытно, как она реагирует на виды и звуки, напоминающие о прошлом лете, и я пристально наблюдал, нет ли у нее признаков необычного волнения. Но становилось все более ясно, что Эдгар уже не занимает главного места в ее мыслях, и это как будто подтверждалось тем, что ее беспокоит другая психологическая проблема. Во время одного из разговоров Стелла сказала, что по ночам у нее начались головные боли и что им неизменно предшествуют смутные, ужасающие сновидения. Из-за них она часто просыпалась, внезапно садилась в темноте, жуткие образы бывали еще ясны в сознании, и минуту-другую она испытывала сильный страх, так как не могла спастись от того, что ей угрожало. И пока сновидения не исчезали, не погружались обратно в тот уголок памяти, из которого поднялись, что, к счастью, занимало лишь несколько секунд, и не забывались, оставляя лишь легкие следы жуткого прохождения через сонный мозг и непреходящую, пульсирующую боль, – до тех пор в голове продолжал звучать вопль.
Я не удивился услышанному, так как именно этого и ожидал. Увидев мою озабоченность, Стелла тут же попыталась сгладить впечатление, сказала, что это просто нелепый кошмар и ей нужен только аспирин от головной боли. О вопле в голове она ничего больше сказать не смогла, но у меня возникло сильное интуитивное убеждение, что это первое проявление чувства вины, до сих пор успешно подавляемого. Я считал, что она слышит вопли тонущего ребенка.
Тут я понял, что выздоровление началось по-настоящему, что она избавилась от Эдгара и позволила себе думать о гибели Чарли. Теперь оставалось изжить чувство вины. Я был уверен, что поскольку это будет мучительно, то станет протекать неуклонно и сравнительно быстро, по крайней мере в начальной, острой фазе. После этого нет смысла держать ее в больнице – вряд ли она будет представлять опасность для общества. А раз так, мне пора задуматься о ее будущем: подумать, что будет с ней примерно через месяц, когда она поправится настолько, чтобы выписаться, и кто будет заботиться о ней.
Через несколько дней я поехал в Уэльс, чтобы обсудить свои планы с Максом Рейфиелом. Бедняга, он не хотел этого визита, не желал, чтобы я видел, как он живет. Макс не бросил работы в Кледуине, не съехал из дома Тревора Уильямса, но мне показалось, что он превращается в отшельника.
Я появился в «Плас Молд» вскоре после полудня. Дом, двор, окружающие поля оказались такими, как их описывала Стелла. За домом лаяла собака, стоял сильный запах навоза. Я надеялся увидеть Тревора Уильямса, этого Лотарио[4] со скотного двора, но ни хозяин дома, ни его жена не показывались. Макс вышел из задней двери без пиджака, в подтяжках и шлепанцах и пригласил меня войти. Он был тощим как жердь и выглядел совершенно сломленным. Повел меня через безупречно чистую кухню, затем вверх по лестнице в гостиную, ставшую теперь его кабинетом, предложил мне стакан хереса.
Комната была обставлена по-спартански. Ни картин, ни радиоприемника, ни телевизора, лишь кресло, несколько книжных полок и письменный стол в дальнем конце у окна, из которого открывался вид на долину. Пока Макс наливал мне херес, я поднялся из кресла и подошел к окну, хотя меня интересовал вовсе не ландшафт – внимание мое привлекли стоявшие на столе фотографии в рамках. На большинстве из них Чарли был один, на двух – с отцом. Я поднес одну к свету. Макс подошел, подал мне херес, и мы вдвоем смотрели на его сына. Я пробормотал, что там нет ни единой фотографии Стеллы.
Макс вздохнул, жестом предложил мне сесть в кресло и повернул рабочий стул так, чтобы сидеть лицом ко мне.
– Да, – произнес он, – Стеллы нет.
Я сказал ему, что не вижу смысла ходить вокруг да около, и заговорил о том, ради чего приехал. Он почти не удивился. Я знаю, что происходит с такими психиатрами, как Макс, людьми, потерпевшими жестокое крушение в жизни. Для них собственное страдание становится источником наслаждения; в каждой провинциальной больнице есть по меньшей мере один такой. Они продолжают работать, добросовестно, а то и энергично, но согбены тяжким бременем переживаний, как собственных, так и пациентов. Утрачивают непосредственность и чувство юмора, реагируют на патологию очень остро, не могут дистанцироваться от того, что ежедневно видят и слышат в палатах. Стирают грань между болезнью и здравомыслием и страдают, подобно Христу, за все человечество. Стать прежними они уже не могут и начинают штудировать философию, обычно мистического характера. Таким стал Макс. С мрачным, озабоченным видом он сказал, что полагает, Стелла идет на поправку, и я вкратце обрисовал ему клиническую картину.
Макс несколько раз кивнул и снова погрузился в безмолвную, хмурую задумчивость.
– Думаю, – сказал он наконец, – что тебе нужно быть осмотрительным.
Осторожность приобретает огромное значение для таких конченых людей, как Макс.
– Осмотрительным? – переспросил я.
– Вряд ли я могу тебе советовать, – ответил он, и в голосе его прозвучала недоброжелательно-ироническая нотка, – ты ее врач, а я всего-навсего, – тут сухое покашливание, – ее муж.