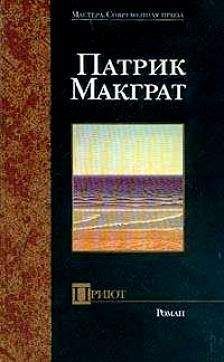– Дурные?
– Я имею в виду Макса, развод со мной.
Она произнесла эти слова с явной иронией.
– Ты меня, конечно, не любишь, – заговорил я, – но, думаю, нуждаешься во мне, по крайней мере сейчас. Я готов сделать ставку на происходящие перемены. Твоя привязанность ко мне усиливается.
Снова молчание.
И тут я уловил ее жалость, представил себе, как она думает: «Бедняга». Стелла слегка улыбнулась. Она восприняла мое предложение не совсем всерьез, но вела себя сдержанно. Принялась вертеть в пальцах зеркальце, глядя, как лучи солнца падают на боковые грани и отбрасывают искорки света. Приподняла брови. Она знала, что я наблюдаю за ней.
– Ты очень страстный мужчина? – негромко спросила Стелла.
– Полагаю, нам предстоит это выяснить, – ответил я мягко, сделав легкое ударение на слове «нам», и стал говорить, что у нас не будет ничего такого, чего она не захочет. Она осознала, что я все еще говорю.
– Что?
– Значит, можешь представить это себе? – спросил я.
Стелла подошла к книжному шкафу, провела пальцем по корешкам. Я скорбная женщина, говорила ее спина, я глубокая вода, я горе, моя душа изранена и кровоточит, будешь ты касаться раны? Недолгое молчание. Не будет, сказала она себе, он не станет терзать меня; и я не терзал. Продолжал молчать, когда она вернулась и села в кресло.
– Знаешь, ты хочешь взять сильно искалеченную птицу.
– Я умею обращаться с искалеченными птицами.
– Если я выйду за тебя…
О, а мое лицо, сказала Стелла, внезапно залилось нежностью! Как приятно ей было видеть эту нежность! Она улыбнулась и положила руку на мою, лежавшую на столе. Глаза ее блуждали по моему лицу, ловя малейший проблеск чувства, которое она пробудила во мне.
– Когда мы поженимся? – спросила Стелла.
– В июле.
– Я буду уже не здесь?
Я покачал головой.
– Бракосочетание будет скромным, не так ли?
– Да, скромным.
Теперь ее взгляд говорил – если бы это было так просто. Я прочел ее мысль.
– Это совсем не сложно.
Стелла сжала мне руку.
– Дорогой Питер, – сказала она, хотя, подозреваю, все еще думала «бедный Питер», и опустилась в кресло. – Кажется, я бы сейчас охотно вернулась в палату.
– Конечно.
Скорбная женщина вела себя как обычно и скрывала поразительное предложение главного врача. Ей пришло было в голову рассказать о нем пациенткам, посмотреть, как они отреагируют, но она догадалась, что услышит от них. За главного врача замуж? Ну конечно, дорогая. А вот я невеста Христова. Мое предложение поначалу рассмешило ее, но я знал, что вскоре она займется сложными подсчетами личных выгод, и был уверен, что найдет брак со мной наилучшим выходом. Я возложил на нее тяжкое бремя, учитывая все то, с чем ей приходилось справляться, но верил, что у нее достанет сил его вынести. Она по-прежнему неохотно рассказывала мне о своих сновидениях, но я вызывал ее на откровенность без особых трудностей, поскольку знал, что простой разговор о них снимет первый, мучительный груз вины.
Кричащим ребенком, разумеется, был Чарли. Заговорив наконец о нем, Стелла сказала, что осознает, какие силы действуют в ее сознании, защищая от него, но он достаточно сильный и прорывается, несмотря ни на что. Она, просыпаясь, сидела на постели, закрыв руками лицо, ее сознание прояснялось, но недостаточно быстро, и она продолжала видеть его постепенно исчезающий образ. В одном особенно часто повторяющемся сне он смотрел на нее и говорил так хорошо ей знакомым серьезным голосом, при котором всегда забавно хмурился; этот голос явственно произносил: «Мама, разве ты не видишь, что я тону?»
Эти слова! Они звучали все утро, пока Стелла следовала заведенному распорядку – умывалась, одевалась, шла по коридорам с другими женщинами в столовую. То было самое трудное время суток, говорила она, те первые часы, когда требовалось сохранять внешнюю уравновешенность, притворяться спокойной, хотя внутренне она содрогалась от того негромкого, серьезного голоса. «Мама, разве ты не видишь, что я тону?» – «Конечно, дорогой, конечно, вижу, я иду на помощь, не пугайся, дорогой, мама тебе поможет, мама не допустит, чтобы ты утонул!» Но кому она это кричала, кто мог ее услышать? Никто; голос ее раскатывался, словно заточенный под сводом, заполненным призраками, и никто не мог ответить, ни один близкий человек не появлялся из темноты, чтобы нежно взять ее за руку, утешить, сказать ей, что все хорошо, что это было лишь сновидение. Она могла не спать, но хорошо не было, так как то был не только сон. Чарли погиб, но продолжал жить в ее душе, крича в своей страшной неспособности понять, почему она не идет к нему на помощь.
Стелла очень расстроилась, рассказывая это мне, и я утешил ее, сказав, что сталкивался с этим раньше. Чарли мертв, напомнил я, мы не можем вернуть его к жизни, но я могу тебе помочь, могу облегчить твои страдания. Стелла призналась, что теперь боится спать – ей кажется, что она будет спускаться по лестнице в подвал, где ждет ужас. Вот что стала означать для нее ночь – переход в ужас. Тень ужаса удлинялась, он все дольше не проходил по утрам, заполняя первые часы дня своим отвратительным психическим привкусом.
Да, Стелла вела со мной тонкую игру. По утрам мы не виделись, в это время я занимался многочисленными административными обязанностями. Лишь после обеда я уделял внимание пациентам, и она откровенно признавалась мне, что голос утих и ее самообладание вполне устойчиво. Мы спокойно разговаривали о Чарли, и она преуменьшала свои страдания, причем не скрывала, что преуменьшает их. Затем мы переходили к более приятному обсуждению нашего брака. Наш брак. Мысль о нем определенно все еще смешила Стеллу: когда я заводил этот разговор, она улыбалась, как будто услышав хорошую шутку. Наша дружба, по крайней мере до этой истории, зачастую включала в себя хорошие шутки. Эта была наилучшей, хотя я говорил серьезно. Я знаю, что она всегда считала меня гомосексуалистом. Теперь Стелла, наверное, думала: возможно, так оно и есть, и то, что он предлагает, в большей мере является лечением в домашней обстановке, чем браком как таковым. Она воссоздавала в памяти мой дом с садом и, кажется, невольно стала стремиться туда, поскольку дом означал покой, изысканность, уют, а что еще ей было нужно? И внезапно Стелле захотелось той жизни, которую я предлагал.
Теперь я беспокоился только о том, чтобы она не изменила решение. Меня впервые за много лет тревожили легкие сомнения. Мне представлялось, что Стелла думает: Питер изо дня в день. Питер за завтраком, обедом и ужином ежедневно. Ежедневно под одной крышей, в одних и тех же комнатах. Но потом я успокаивал себя: Стелла понимает, что будет вести со мной культурную, веселую жизнь, что ей нечего опасаться обнаружить во мне какие-то неприятные привычки, мелочную жестокость, неожиданную суровость; она знала, что я отнюдь не мелочный человек. Да, она могла бы жить со мной. Насчет общей постели Стелла была не столь уверена. В данной области люди неизменно бывают удивлены, и редко это удивление приятно…
Стелла подвела меня к мысли, что сможет удовлетворить мои ожидания от брака, что сможет меня осчастливить и при этом обеспечить себе хотя бы скромное довольство. Это было нетрудно, учитывая мой характер и то, чем я обладал. Уют ведет к благопристойности, сказала Стелла. Мы оба знали, что происходит с любовью в нищенской обстановке: любовь там горит, но каким неровным, беспокойным пламенем! Подобной любви не место в той жизни, какую мы собирались вести, подобная любовь – ад в сравнении с теплом цивилизованного бытия, какое мы собирались наладить. Однако казалось, мы оба уже безмолвно соглашались с тем, что все эти сильные чувства имеют способность неудержимо пылать и потом гибнуть, спалив все, что питало их. Во всяком случае, с этим было покончено. Или Стелла подвела меня к этой мысли.
Стелла попросила меня увеличить количество снотворного и сильно встревожилась, когда я предположил, что, пожалуй, ей лучше обходиться без лекарств, что, подавляя сновидения, она блокирует подсознательный материал, который будет полезен, когда она примирится со смертью Чарли. Я видел, каких усилий стоило ей сдержать восклицание: «Ничто не подавляется!» Вместо этого она сказала, что воспоминания очень мучают ее днем и ей нужно избавляться от них хотя бы во сне.
– Как хочешь, – ответил я и не стал настаивать, не стал принуждать ее. Я не особенно беспокоился, и, как оказалось, зря. Но тогда я не понимал, какую сложную игру она ведет под воздействием мучительной, неослабной боли, о природе которой я совершенно не догадывался. Я решил не увеличивать ей количество снотворного, сказал, что она и так получает весьма большую дозу.
Я несколько дней не видел Стеллы. В июле, сказал я ей. Между тем кончался май. Оставалось пять-шесть недель. Стелла вела себя как обычно – тщательно одевалась по утрам, ходила в больничную библиотеку, брала книгу в дневную палату, читала возле окна, если никто из женщин не подходил к ней с разговорами. Оставалась сдержанной, любезной, печальной.