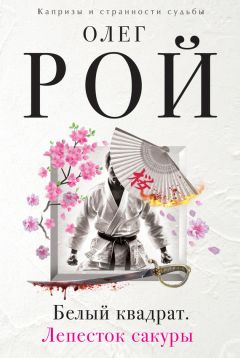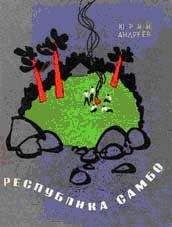Его приняли, просто не могли не принять героя штабс-капитана, про которого тут знали все. Медицинский начальник, полковник военно-медицинской службы, сам оперировал и потому в своем кабинете по большей части отдыхал. Спиридонову, можно сказать, повезло – он застал его как раз в короткие минуты отдыха.
– Мне срочно нужно в Москву, – задыхаясь после «пробежки» в гору от Демеевки к госпиталю, выдохнул Спиридонов. – Вопрос жизни и смерти.
– Зачем? – устало спросил полковник. Он отнюдь не перечил, просто уточнял.
– У меня там жена! – Спиридонов сказал это так, словно это все объясняло.
Полковник тяжко вздохнул. Спиридонов прекрасно понял, что он имеет в виду. Не у него одного жена дожидалась мужа с фронта. У многих жены никогда не дождутся своих мужей. Со стороны случай его отнюдь не казался каким-нибудь исключением, наоборот: такое для войны было типичным.
– Вы не понимаете, – проговорил Спиридонов с трудом, ворочая языком «горячую кашу» – последствия контузии. – Она у меня… болезненная. Я… боюсь, не случилось бы с ней чего. Я давно не давал о себе знать.
– Вы же понимаете, я такие вопросы не решаю, – каким-то сухим, серым голосом ответил полковник. – Это надо согласовать с кадровым отделом армии. Вообще говоря, вам предстоит комиссия по определению степени пригодности к дальнейшей службе…
– Комиссию я могу и в Москве пройти, – упрямо гнул свое Спиридонов. – Я из московского резервного полка, так что в Московском военном округе мне… сам бог велел.
– Я запрошу начальство, – пообещал полковник. – А вы пока сбегали бы на телеграф и дали бы телеграмму жене своей – жив, мол, здоров. Не хотелось бы вас пугать, но органы тыла могли и не сообщить ей о том, что с вами случилось. Крысы тыловые, только гадить умеют, тьфу…
Спиридонов подумал, что полковник и сам вряд ли был на фронте, по крайней мере в эту войну, хотя, судя по возрасту, он вполне мог оперировать героев Шипки или хотя бы ассистировать при операциях. Но его работа в тылу, конечно же, давала ему право причислять себя к фронтовикам. Еще неизвестно, что сложнее – ходить в атаки и отражать атаки противника или принимать решения, способные сохранить человеку жизнь или сделать его калекой. Для начальника Киевского госпиталя война была такой же реальностью, как и для каждого солдата, оттого вполне понятно было его отношение к «тыловым крысам».
Виктор Афанасьевич ничего не ответил, лишь кивнул и поспешил воспользоваться предложением. Извозчиков в Киеве было немного, лошадей, вероятно, реквизировали на нужды фронта, так что Спиридонову пришлось тащиться по обледенелой дороге до Бессарабки и потом через весь Крещатик. По дороге он несколько раз присаживался передохнуть, но зато очень кстати прикупил у разносчицы пачку относительно дешевых, смолистых и мерзких на вкус папирос (выданную ему в пайке пачку он приговорил с тех пор, как вспомнил о Клавушке). На почтамте ему пришлось отстоять очередь и в придачу пропустить перед собой какого-то фертика – поручика с «аллюром три креста». Кипя душой, Виктор Афанасьевич старался сохранять спокойствие. От того, что он будет нервничать, ничего не изменится. Ждать и догонять – самое плохое, что может быть в жизни, но из этих «ждать» и «догонять», увы, и состоит вся наша жизнь.
Он дал Клавушке телеграмму. Просил ответить как можно скорее. После чего потащился обратно в госпиталь. Сказать, что на душе было тяжело, – значит ничего не сказать. Тяжело? Нет, внутри у него бушевал океан тревоги. Он не знал, куда себя деть…
Вернувшись в палату, Спиридонов повалился на жесткую койку – и тут же вскочил. Лежать неподвижно было сверх его сил. Рывком, едва не срывая пуговицы, он сбросил больничную рубаху и начал проделывать приемы дзюудзюцу, от более простых к более сложным, воспроизводя процесс обычной своей тренировки – впервые после того, как пришел в себя.
Тренировка несколько его усмирила, притупила тревогу, но под вечер ему стало плохо, ночь он провел беспокойно, однако наутро был на ногах и физически чувствовал себя лучше, чем накануне. Ответа он ожидал весь день и понимал, что, может быть, придется ждать еще дольше. Тянущееся, как патока, время он убивал по примеру вчерашнего дня – в тренировке. За это даже поцапался с наблюдающим его фельдшером, худым рыжим юнцом. Тот не одобрил нагрузки, и Спиридонов высказал ему резко, что не ему-де боевым офицерам указывать. Это был один из немногих случаев в жизни штабс-капитана, когда он вышел из себя и поступил некорректно, и уже вечером, столкнувшись с рыжим фельдшером, перед ним извинился.
– Ничего, я понимаю. – Парень, должно быть, не так давно протиравший брюки на гимназической скамье, был смущен извинениями бывалого штабс-капитана, пожалуй, поболе, чем его упреками. – И вы меня простите, я лишь… я не хотел, чтоб вы снова слегли.
Он нервно расстегнул сумку, висевшую у него на плече.
– Я, собственно, к вам с оказией, – продолжил он. – Телеграмма на ваше имя пришла, вот…
И протянул Спиридонову лист с расшифровкой. Ответная телеграмма была всего в десяти словах:
«Слава богу, Вы живы! Теперь и я жива. Ваша Клава».
* * *
С медицинским термином «ремиссия» Виктору Афанасьевичу довелось познакомиться много позже. Ремиссия – это явление, при котором смертельно больной человек чувствует себя совершенно здоровым. Увы, это чувство обманчиво и, как правило, является подписью смерти под приговором больного. Это значит, что болезнь уже добралась до мозга, взяла под контроль ту естественную сигнализацию, что с рождения встроена в наш организм, – боль. Потому без боли мы беззащитны, она предупреждает, что организм терпит бедствие, и мы спешим на помощь ему. Так уж устроен мир: неприятные вещи для нас подчас куда более необходимы, чем те, что дарят нам удовольствие.
Это была самая настоящая ремиссия, но ни сам Спиридонов, ни Клавдия Григорьевна еще не понимали этого. Они встретились под дебаркадером Киевского вокзала Москвы, в клубах пара от только что прибывшего паровоза. Виктор Афанасьевич неуклюже спрыгнул с площадки вагона; на этой площадке он проторчал всю ночь, смоля дешевую махорку, которую загодя накрутил в самокрутки, используя для этой цели эсеровскую газетенку. Он мог провести время в вагоне, мог даже поспать, ведь в Москву поезд шел не то чтобы пустым, но и не переполненным. Однако ему не спалось, он чувствовал себя, как в лихорадке, потому ему не сиделось на месте.
Ее хрупкую фигурку он заметил издали, еще до того, как паровоз зашел под дебаркадер. Она тоже его заметила, рванулась было навстречу, но он жестом остановил ее и, едва поезд прекратил движение, прыгнул на перрон.
Ему казалось, что он двигался медленно, как во сне. Она покорно ждала его, ждала, пока он не приблизится, пока не заключит ее в свои объятия. Всегда бледная и худенькая, сейчас она стала почти бестелесной; черты ее обострились, но глаза по-прежнему искрились таким знакомым ему огоньком.
Он пообещал ей, поклялся, что никогда больше с ней не расстанется, и сдержал обещание, но вовсе не так, как ему бы хотелось. Они возвращались домой счастливые, словно окрыленные, еще не зная, что счастья им отведено всего ничего. Пока он был на фронте, родители Клавушки отошли в лучший мир – акционерное общество, куда Чистовы вложились, лишившись возможности доставить из-за границы ранее закупленные товары, разорилось подчистую, и это вызвало у главы семьи апоплексический удар, а его супруга пережила мужа совсем ненадолго, исчахнув с тоски. Клавдия Григорьевна осталась совсем одна, плюс к тому ее снедал страх за мужа, пропавшего без вести в ходе массированного наступления, которое обыватели уже начали именовать «Брусиловским прорывом» – как будто генерал Брусилов провел его лично, по своему хотению, а не руководствуясь подробными распоряжениями Главковерха и скрупулезными проработками Генерального штаба.
Впрочем, Клавдии Григорьевне не было дела до таких тонкостей. Она чувствовала, что с мужем произошло что-то плохое…
– …но ни на минутку, слышите, ни на секундочку я не поверила, что вы могли погибнуть! – взахлеб говорила она со своей неизменной искренностью, не отводя взгляда от усталых глаз Спиридонова. – Нет, мне и в голову такое бы не пришло. Но каждый день без вас был…
Она, должно быть, хотела сказать «пыткой», «мукой», но вовремя спохватилась. Она не хотела его огорчать даже теми своими проблемами, что остались уже позади. Не сразу Спиридонов узнал, что она почти голодала все эти полгода, а о том, сколько она выплакала слез, не узнал и вовсе.
Так что теперь во всей вселенной у Клавдии Григорьевны был только муж. Впрочем, не так ли было и раньше? Евангельские слова «отлепится человек от отца своего и матери и прилепится к суженому или суженой» в точности относились к Клавдии Григорьевне; с самого венчания и даже раньше Виктор Афанасьевич стал ее миром, ее жизнью, ее дыханием. Без него она была как без воздуха и не умерла только чудом. Телеграмма Спиридонова застала ее в таком состоянии, что она долго не могла поверить, что его послание ей не грезится, и заставила даже татарина-дворника прочитать ей текст. Прочитать тот, конечно, не мог, поскольку грамоте был не обучен, и лишь по буквам разобрал ей подпись на телеграмме. И лихорадка ее отступила, рассеялась, как ночной кошмар солнечным утром. Так что, когда Клавдия Григорьевна писала Спиридонову, что «теперь и я ожила» – это было ничуть не преувеличение. Телеграмма Виктора Афанасьевича воскресила ее.