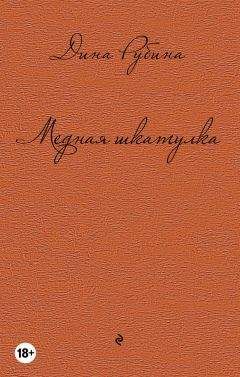Ознакомительная версия.
Минут двадцать мы обсуждали другие способы самоубийства. Он сказал, что обдумывал все два дня, и вот это – прыжок – самое для него простое, привычное – он три года занимался прыжками с парашютом. Сказал: это просто, наработано – шагнул и кочумай – и добавил:
– У меня прилично прыжков на счету… Могло же всякое быть. Мог когда-то и парашют не раскрыться…
– Вы думаете, это одно и то же?
– Да какая разница, – устало отозвался он. – Ладно, не хочу долго морочить вам голову…
– А как вы выглядите? – перебила я его, мысленно натягивая тонкий шпагат между нами до звенящей, почти осязаемой струны. – Пытаюсь представить вас, не получается. Вы могли бы себя описать?
– Господи, да зачем это… Вас действительно интересует или так положено спрашивать?
– И положено, – честно ответила я, – и самой важно: я терпеть не могу телефон за то, что лица собеседника не вижу. Голос – это дым, ничто… Отзвучал и растаял. Опишите себя, а?
– Нечего описывать… Среднего роста, волосы русые. Лицо… ну… самое заурядное. Таких, как я, в любом трамвае штук десять.
– И все же, мне кажется, вы должны нравиться женщинам…
– Да что вы, – равнодушно возразил он. – Никогда не мог понять, что во мне Таня нашла… Просто привыкла, наверное: с детства вместе.
Икры у меня под столом свело от судороги. Зуб на зуб не попадал, но я держала и держала его на этом шпагате, мысленно навалившись грудью на его стопы (он был в кроссовках, как выяснилось по его описанию). И тупо смотрела в наше окно, закрытое железной тюремной решеткой, остро сожалея, что не могу усилием воли перенести ее на окна его квартиры.
Несколько раз он пытался отделаться от меня, я слышала по голосу, как его с головой накрывает вал тоски и усталости, и вновь, усилием воли замедляя свой голос, задавала следующий вопрос… Наши голоса боролись над бездной; его пытался вывернуться, выскользнуть, улететь… мой – оплетал, как удав, завязывая узелки на шпагате, цепляясь за каждый повод, придумывая все новые повороты темы.
Через час мы неожиданно перешли на «ты», когда случайно в разговоре выяснилось, что учились в одной школе, только он, разумеется, закончил на десять лет раньше. У него с женой, понимаете ли, школьная еще любовь. Сидели за одной партой.
– Ну знаешь, – сказала я. – Десять лет за одной партой – это сильно. Это посильнее, чем десять лет в одной постели.
Он опять закашлялся, а я испугалась – сейчас оступится!
– У тебя голос прерывается, – сказала я. – Слышу, как трудно тебе говорить. На твоем месте я бы глотнула че-нить горячительного… Есть что-то под рукой?
Я бы и на своем месте глотнула… да что там! – залила бы в себя хороший стакан водки, чтобы унять дрожь во всем теле.
Внутри у меня скрутилась воронка боли. Свело желудок и отдавало в низ живота – туда, где за полгода до того благополучно был вырезан аппендикс; прижимая ладонь к ноющему шву, слегка раскачиваясь и слегка раскатывая слова во рту, я приветливо и спокойно интересовалась – не холодно ли ему там, на ветру? Что он чувствует? Жжет ли внутри, или просто щемит сердце?
Мы говорили – так в журнале записано, и значит, это правда, хотя сейчас не могу поверить – 4 часа 23 минуты. Самым страшным был миг, когда он вдруг обо мне обеспокоился – не устала ли я. С одной стороны – знак хороший, переключился, значит; с другой стороны – я вдруг ясно увидела, как шагает он с подоконника, чтобы меня и дальше не утомлять.
Впервые маячок надежды на то, что мы выкарабкаемся, мигнул мне, когда он заплакал.
Это была фаза в разговоре, когда я перешла к темам, практически у нас запрещенным: нельзя давить на суицидента, используя его чувства к детям. Но я вконец обессилела и готова была сползти на пол. Я ненавидела его и боялась за него до ужаса. И спросила:
– А сыновья – который на тебя похож?
Он умолк, будто кто внезапно сдавил ему горло. Потом шумно сглотнул и сказал:
– На меня-то похож старший. Хороший парнишка. Самостоятельный такой, спокойный… Но младший у меня, трехлетний, – ох, это огонь! В Таню с головы до ног. Все ему нужно, до всего есть дело… и такой философ!.. На днях говорит: «Бесполезная моя жизнь. Я ничего не умею. Не умею даже играть на скрипке…»
И вот после этих слов – он заплакал, и у меня перехватило горло: это уже была крошечная победа над шестью этажами пустоты.
Я сказала:
– Такие яркие дети обычно бывают очень трудны. Потом. В переходном возрасте. Через какие-нибудь лет десять…
– Да, – ответил он, помолчав. – Ты права, конечно. Но все бесполезно. Таня не простит и не вернется… И не даст мне их видеть – она предупредила.
– Это как сказать, – мягко возразила я. – Такие женщины своим кровным не бросаются.
– Думаешь? – спросил он.
И я неожиданно для себя проговорила бесшабашным тоном:
– А знаешь… я бы отомстила!
Там повисла пауза – я даже испугалась, что пережала, полезла в дебри, куда лишь двоим позволительно забираться. Он помедлил и спросил:
– Кому?
– Да той гадине, которая ей доложила.
Он издал странный звук – сдавленный смешок или фырканье. Я с надеждой прислушивалась: это уже было похоже на жизнь.
– Да я та самая гадина и есть, – сказал он просто.
Тут уже опешила я. Не знала, как реагировать. Но говорить было необходимо, во что было ни стало надо было говорить, говорить – завязывать узелки, не ослаблять натяжение шпагата.
– А… как же… как это произошло?
– Да просто: протрезвел и взвыл. Знаешь, на деревенских свадьбах бывает: один гость звезданет другого по пьяной лавочке кулаком в висок, тот – с копыт долой. А убийца протрезвеет… и что оказывается? Что убитый – его двоюродный брательник. И идет он по улице в наручниках, меж двух мильтонов, мотает башкой и воет… Так и я: проснулся после проклятого Серегиного «мальчишника», увидел эту… это тело рядом с собой, паскудство это, и… ка-а-ак шарахнет меня! Понял – не могу! Не смогу это в себе нести. Пришел домой, разбудил Таню и вывалил все, как исповеднику… Я ж привык все ей нести. Ты не представляешь, что она обо мне знает… все! Даже то, что пацаны всегда и ото всех держат в тайне. Думал – освобожусь, очищусь, все забуду… Дурак, да?
– Да! – искренне согласилась я опять-таки против всех правил. – Но, знаешь… я бы дала ей время с этим разобраться. Как психолог тебе говорю. Сейчас она, конечно, взбаламучена, растерзана, да просто убита… Но потом обязательно вспомнит, что ты, дурак, сам все выложил, а это – что значит?..
– Что? – быстро переспросил он, и по тому, с какой жадной торопливостью он выхватывал мои слова, я знала уже, что он мой, мой, надо только снять его с проклятого подоконника, чтоб не свалился уже случайно…
– А то значит, что для тебя для самого это… как обвал, как сель в горах… Верная примета, что ты никогда прежде не изменял, что это противно самой твоей природе… И выходит, что… – я судорожно перевела дух. – Да, по-моему, она просто решила встряхнуть тебя как следует. Отметелить так, чтоб на всю жизнь запомнил!
– Ну да-а… – с сомнением и надеждой протянул он. – Ты моей Тани не знаешь. Она никогда ничего не просчитывает. Никогда! Это такой огонь!
– Огонь, огонь… Погорит и перегорит… Дети про папу раз спросят, другой… Такие женщины к поражениям непривычны.
Язык мой заплетался, веки отяжелели и опускались, в горле пересохло.
Я продолжала говорить, и говорить, и спрашивать, и возражать, не допуская в голосе ни малейшего всплеска раздражения или отчаяния… Тихонько подтягивала шпагат. За луковку, за луковку вытягивала…
В какой-то момент я увидела, что небо за решеткой стало бледнеть, будто кто-то, усердный, протирал его и полировал до прозрачности. Еще не голубое, а голубиное, сине-сизое, оно ширилось и набухало за решеткой, билось об нее крылами в надежде пробиться в день…
В эти вот мгновения я ощутила такое обморочное изнеможение, точно много дней без еды и питья пересекала пустыню; почувствовала, что мои собственные силы на исходе, и минута-другая – я просто отпущу его, не в состоянии дольше натягивать этот свой воображаемый шпагат.
Тогда, закрыв глаза, из последних сил я вскарабкалась к нему на подоконник, обняла спину, прижалась покрепче и потянула назад, чтобы мы с ним в обнимку упали в комнату…
И тотчас – трудно сейчас в это поверить, но помню я об этом много лет – он произнес:
– Светает… Кончилась ночь!
И я услышала пружинный стук кроссовок: он спрыгнул с подоконника на пол.
Затем ему, видимо, стало совсем неловко; он скомканно попрощался и положил трубку.
Я сидела, откинувшись на спинку стула, и глядела в стену невидящим, опустошенным взглядом… Внутри меня жужжал, стихая, тугой завод невидимого механизма. Безумная карусель замедляла ход, притормаживая свой бег в никуда и в ничто…
Ознакомительная версия.