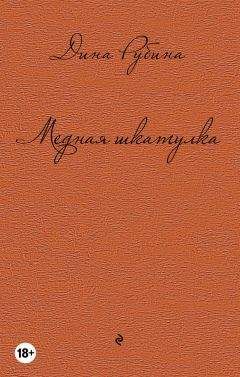Ознакомительная версия.
И тотчас – трудно сейчас в это поверить, но помню я об этом много лет – он произнес:
– Светает… Кончилась ночь!
И я услышала пружинный стук кроссовок: он спрыгнул с подоконника на пол.
Затем ему, видимо, стало совсем неловко; он скомканно попрощался и положил трубку.
Я сидела, откинувшись на спинку стула, и глядела в стену невидящим, опустошенным взглядом… Внутри меня жужжал, стихая, тугой завод невидимого механизма. Безумная карусель замедляла ход, притормаживая свой бег в никуда и в ничто…
Так и просидела минут сорок, бессмысленно глядя в стену – только бы не в окно. Прогремел первый трамвай, зачирикал, закаркал, засвиристел оголтелый хор птичьих стай в кронах утренних чинар.
Напарница вскипятила воду, заварила чай и молча поставила передо мной стакан, всыпав туда четыре ложки сахару. Странно: я совсем забыла, что, кроме меня, в комнате кто-то есть…
В восемь нас, как обычно, выпустили, и, дождавшись трамвая, я поехала домой.
Я не могла смотреть на окна.
И ни разу больше не возвращалась той дорогой, мимо дома с дорогим для меня окном, где мужской силуэт за занавеской мерно качал коляску с новорожденными близнецами.
Но сегодня, спустя много лет, когда мы говорим с моим другом по скайпу, преодолевая мощные валы океанских пространств, в памяти нет-нет да всплывают те давние окна: большое, забранное тесной тюремной решеткой, и другое, освещенное домашним светом настольной лампы; а еще – то неизвестное, как сейчас говорят – виртуальное окно шестого этажа, где на подоконнике я, как библейский Иаков, всю ночь до зари боролась со смертью; боролась – и победила.
Иерусалим, ноябрь, 2011 г.
Я помню ее в раме окна. Не настоящего окна, а проема, вырезанного в фанерной стенке артистической грим-уборной, – чтобы те из артистов, кто лишь готовится к выходу, могли следить за происходящим на сцене. Это был наш совместный вечер в Нетании. Рената выступала первой, а я в фанерный проем смотрела на ее потрясающую мимику и точно выверенную жестикуляцию – хотя со стороны могло показаться, что она слишком размахивает руками.
Выступала она убийственно смешно. Точно помню, о чем рассказывала в тот раз: о друге, который репатриировался в Израиль с двумя проектами: дешевым и суперзатратным. Дешевым был проект самораскрывающегося зонтика над автомобилем, дабы уберечь личный транспорт от дождя, а затратным – проект экскаватора, что вгрызается с моря в сушу, прорывая в ней каналы… Зал грохотал, я плохо слышала – звук уносило на публику, но движения Ренаты, мимика ее завораживали и в моем воображении остались, как ряд фотографий в рамках.
Среди ее историй, рассказанных мне в долгих телефонных разговорах и оставшихся в беглых записях на счетах за электричество и воду, есть история про журналистку, которая собралась написать статью о недавно ушедшем Борисе Заходере и по этому поводу напросилась к Ренате в гости – «задать пару вопросиков». «Вопросики ее оказались ужасными», – жаловалась Рената.
– Говорят, он был страшный бабник? – спросила журналистка. – Говорят, ни одной юбки не пропускал…
– Меня пропустил, – ответила Рената.
– Но он был тяжелым человеком…
– Возможно. Но тридцать четыре года меня это устраивало.
«Вероятно, стоило ее послать к черту, но духу не хватило, – сказала она. – Я просто пыталась сохранять достоинство, хотя не очень хорошо в этом тренирована. Лучше всего я сохраняю достоинство молча».
…Не могу простить себе, что так и не уговорила ее записать блистательные устные рассказы, случаи и сценки, как бы «вдруг» пришедшие на память в разговоре, но абсолютно, филигранно отделанные, до мельчайших деталей и примечаний.
Сейчас говорю себе: в конце концов, надо было их украсть, записать самой и напечатать. Хотя, конечно, без ее неподражаемой интонации, мягкого украинского придыхания, без этих эмоциональных взлетов ее взрывной и одновременно певучей речи, многое пропадает.
Сколько их пропало, летучих шедевров неописуемой, искрящейся Ренаты Мухи!
Я познакомилась с Ренатой Мухой по телефону – то есть была лишена основной зрелищной компоненты: не видела ее жестикуляции. Ее рук, взлетающих и поправляющих на затылке невидимую кепку, очерчивающих в воздухе арбуз, то и дело отсылающих слушателей куда-то поверх их собственных голов, а иногда и пихающих (если понадобится по ходу рассказа) соседа локтем под ребро.
Вообще, Рената Муха – это приключение. И не всегда – безопасное. То есть все зависит от репертуара. Например, отправляясь с Ренатой в гости в почтенный дом, набитый дорогой посудой, надо помнить о бьющихся вещах и внимательно следить за тем, чтобы никто из гостей не попросил ее рассказать о покойной тете Иде Абрамовне. Потому что это все равно, что попросить Соловья-разбойника насвистать мотивчик колыбельной песни – сильно потом пожалеешь.
У каждого уважающего себя рассказчика есть такой коронный номер, который срабатывает безотказно в аудитории любого возраста, национального состава и интеллектуального уровня. У Ренаты – рассказчицы бесподобной, профессиональной, дипломированной – есть номер об Иде Абрамовне. Такой себе монолог еврейской тети. Опять же, у каждого эстрадного номера есть эмоциональная вершина. Эмоциональная вершина в монологе Иды Абрамовны совпадает со звуковым и даже сверхзвуковым пиком рассказа.
«…И он видит меня идти и говорит: «Ах, Ида Абрамовна-а-а-а-а-а-а!!!!!..» Представьте себе самолет, разбегающийся на взлетной полосе, быстрее, сильнее, и – колеса отрываются от земли – взлет!!! Так голос Ренаты взмывает все выше, пронзительнее, громче… Ослепительное по сверхзвуковой своей силе «А-а-а-а-а-а-а-а!!!!» крепнет, набирает дыхание, сверлом вбуравливается в мозг – длится, длится, длится…
Каждый раз я жду, что упадет люстра. Или взорвется осколками какой-нибудь бокал в шкафу. Или у кого-то лопнут барабанные перепонки.
Слушатели обычно застывают, окаменевают, как при смертельном трюке каскадера.
* * *
Под конец, когда я уже ясно понимала (хотя и надеялась, надеялась – ведь она так отважно сражалась с болезнью!), – понимала, что развязка не за горами, я стала записывать наши телефонные разговоры. Голос ее слабел, но ирония, словесная меткость, образность речи нисколько не потускнели.
Перебирая эти беглые записочки на случайных конвертах, счетах, четвертушках бумаг, я натыкаюсь на какие-то записанные мною фразы из разговоров, вроде этой, часто произносимой старой нянькой Ренаты: «Нэ робы, як ты робыш, и нэ будь такой, як ты е!» – и не помню уже, не помню, по какому случаю их записала. Не могла же я сказать ей: «Рената, помедленней, пожалуйста, я записываю!» А может, так и было нужно?
Есть и целые рассказанные ею эпизоды, вроде истории с их другом, врачом из Германии, которого однажды немецкая полиция подвергла интересному наказанию: «Понимаете, Дина, вообще-то он врач и к тому же святой человек. Это трудно совместить, но у него получается… Так вот, на днях он ехал домой и смеялся, вспомнил за рулем что-то смешное. Оказывается, этого в Германии нельзя. Его остановил дорожный патруль, его сфотографировали и фотографию повесили на такую доску – она есть в каждом районе, как у нас раньше, помните: «Они позорят наш район!» В Германии обычно на таких вывешивают фотографии проституток…»
Успела записать еще один эпизод: про то, как в молодости на телевидении в Харькове Рената участвовала в программе по изучению английского языка. Играла в «разговорных» сценах то официантку по имени Наташа («Была очень убедительна, что вы думаете!»), то еще какую-нибудь четко говорящую по-английски куклу.
– И вдруг директора программ, редактора, главного редактора и режиссера передачи, а также меня вызывают в обком. Не рай! И не гор, Дина! А об-ком. Харьков – большой город… «Получили анонимный сигнал о вашей передаче», – говорит Дурасиков. Был такой инструктор. Любил мальчиков, что никому не возбраняется, но одного утопил в бассейне, что уже хуже… Однако все это выяснилось позже, а в тот момент он высадил нас всех по ранжиру и говорит: мол, получили письмо от трудящихся, в котором такая фраза: «И вот эта Наташа с ее глупыми глазами, у нее такой вид, как будто хочет сказать – ой, как я сама себе нравлюсь!»
Рената делает паузу.
– И все эти милые люди, Дина, – продолжает она мягким и даже меланхоличным тоном, – и директор программ, и редактор, и режиссер передачи… вдруг обосрались. Они перестали на меня смотреть. Инструктор Дурасиков их спрашивает: «У нее глупые глаза?»
Я поднялась и сказала: «Нет. Умные».
И все эти кролики замерли и затряслись. Дурасиков помолчал, прокашлялся, выпил воды из стакана и сказал: «Тогда ладно…»
Ознакомительная версия.