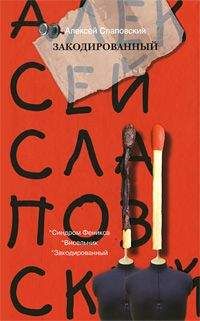И – к двери.
– А ну стой! – заорал Петров (потому что какие мы там ни психотерапевты, а самолюбие – как без него? как позволить другому сказать последнее слово?). Он не только заорал, он, забывшись, вцепился мне в рукав, но я брезгливо оторвал его руку – и вышел, хлопнув дверью, не попрощавшись даже с Ниной.
Впрочем, я уверен был, что она позвонит – и, скорее всего, в тот же день. Она и позвонила – вечером. Разговор я записал на магнитофон. Как и впоследствии записывал: чтобы потом слушать, вспоминать. ПОТОМ. Понимаете меня?
А кого это я спрашиваю? Следователя, которому отнесу эту тетрадь? Или друга сокровенного, которому захочу покаяться? Или, упаси бог, читателей, которым предложу все это в виде занимательного повествования? Или чертиков, которые мерещатся по углам? – но мне никакие чертики не мерещатся и не мерещились даже в ту пору, когда я допивался до тяжелых похмелий. Будем считать, что я себя спрашиваю – на «вы». Но зачем мне себя спрашивать, если и без вопроса знаю ответ?
ПОТОМ.
После шестнадцатого октября, после дня ее рождения.
Естественно, она сказала, что звонит в последний раз и только для того, чтобы выразить возмущение по поводу моего поведения, по поводу того, как я вел себя по отношению (волнуясь, она выражалась довольно коряво) к замечательному человеку Александру Сергеевичу Петрову, подобных которому она не встречала всю свою жизнь, да еще позволил (это я, а не Александр Сергеевич) высказать грязные предположения по поводу их взаимоотношений, в то время как, кроме деловых контактов, тут ничего нет и быть не может.
– Во-первых, – сказал я, – что погорячился – признаю. Но грязных предположений не делал. Пошлые, убогие – но не грязные. И сам же в них, если помните, усомнился. Во-вторых, зачем вы оправдываетесь?
– Я – оправдываюсь?
– Не только оправдываетесь. Вы говорите неправду.
– Что?!
– Положим, у вас к нему отношение как к учителю, как к старшему товарищу. А у него к вам? Или я слепой и глухой? Я не такой чуткий, как Александр ваш Сергеевич (хотя то, что он убийца – вы слышите меня? – угадал!), но понять его отношение к вам вполне могу. Скажите еще раз неправду. Это ведь легко.
– Ну, пусть так, – сказала она после паузы – не мхатовской, как у меня, и не тугодумной майорской, как у Петрова, а после паузы женской – когда за полминуты решается вопрос: продать близкого человека ради случайного красавца или не продать. Вопрос, насколько я знаю женщин, всегда решается в пользу красавца. (О том, что я красавец, говорю без хвастовства и кокетства. В году двенадцать месяцев. Зимой холодно, а летом тепло. В пятиэтажных домах – пять этажей. Я – красавец. Ряд равноправный.)
– Пусть так, – сказала она наконец, – он действительно… Но он культурнейший, воспитаннейший человек, он ни словом, ни намеком…
– Извините – это до тех пор, пока он не чует соперника. В вашем курсанте он соперника не чуял – и молодец, и прав.
– Слушайте…
– Послушаю. Но дайте договорить, очень прошу. Во мне же он почувствовал соперника – и серьезного. Вот и взвился, вот и нарисовал меня каким-то сущим дьяволом. Представляю, что он еще обо мне наговорил!
– А вот и врете. И ни черта не понимаете в этом человеке! Он ни слова, клянусь, ни слова о вас не сказал.
– Неправда. Он должен был хотя бы сказать, что вот именно ни слова обо мне не скажет или что-то в этом роде.
– Ну так. И всё.
– Вспомните, очень прошу, в каких именно выражениях он это сказал.
– Это неважно.
– Боитесь?
– Чего?
Она опять сделала паузу. И опять предала близкого человека.
– Он сказал, что у него такое чувство, будто наступил на жабу. Противно. И я его понимаю, кстати. Довольны?
– Очень!
Я был действительно доволен. Александр Сергеевич умница, он не будет подробно изливать свою неприязнь к сопернику, называть его подлецом, страшным человеком – или, к примеру, несчастным. Все эти слова, не дай бог, заинтересуют девушку, не дай бог, захочет узнать: почему подлец, почему страшный, почему несчастный? Нет, самое лучшее – как плевком – одним словцом пренебрежительно уничтожить человека. И словцо хорошее: жаба. Девушки жаб не любят: зеленые, холодные, пупырчатые и всегда неожиданно выскакивают из дачной травы, норовя прыгнуть на босые ноги. Отличное словцо, отличный образ, хорошо усваивается памятью.
Все это я Нине объяснил – и она отрицала, поминутно собиралась прекратить разговор. Но дело было уже сделано.
– Вы ведь как коллеги и специалисты обсуждаете своих пациентов, ведь так? Это не сплетничанье, это профессиональный разговор. Почему же он отделался одной жабой, а вы – почему, почему? – не спросили, что он имел в виду, называя меня в лицо несчастным человеком, хотя вам до смерти хотелось спросить? Тут, правда, он поспешил, он не успел подумать о возможном влиянии этого диагноза на ваше отношение ко мне.
– Вы чушь какую-то несете. Он не хотел об этом говорить, вот я и не стала спрашивать.
– Но хотелось спросить?
– Да, – ответила честная девушка.
– И при случае спросите?
– Возможно.
– Огромная просьба: позвоните мне в последний раз – и пусть это будет окончательный последний раз – и скажите, что он имел в виду, когда назвал меня несчастным. В конце концов, есть у меня право знать о себе?! При этом повеления его выполню – и с ним не буду дружиться, коль не хочет, и вас домогаться не буду.
– Ну разве только при этом условии, – сказала она, повесив трубку и очень, наверное, довольная таким концом разговора, где она вышла полный молодец, а я вышел… А вот кто вышел я?
Тут-то и начнется у нее бессонная ночка. Почему, в самом деле, так разволновался Александр Сергеевич? Почему, обычно такой корректный, назвал человека жабой? Почему не захотел говорить о нем – хотя любит рассказывать о своих ощущениях и о своем проникновении в душу другого? Что за человек этот делец, так неожиданно с ней познакомившийся, тезка ее Сережи (опять не навестила его в училище, а он, наверное, то и дело крутится возле КПП, контрольно-пропускного пункта), делец с ухватками вовсе не дельца и с культурной речью, что, впрочем, неудивительно при его высшем физико-математическом образовании? Почему он обронил это словцо – несчастный? Александр Сергеевич сказал: страшный. Ну и: жаба.
Не слукавил ли бывший майор, которого она считала кристальнейшим человеком, думающим только о своих мыслях, о творчестве и о здоровье болящих, которым помогает почти бескорыстно? А если слукавил – то почему? Может, он почувствовал в Сергее (так она будет мысленно называть меня в отличие от курсанта Сережи) именно глубокое несчастье и побоялся, что это несчастье и меня засосет, как омут?
Но в чем это несчастье? И почему Петров, так много рассказывавший о себе (в том числе о своей неудавшейся семейной жизни), не рассказал о людях, которых убивал? Пусть законным образом, во время боевых действий, но ведь убивал! Он, правда, и о других подробностях своей военной карьеры не распространялся, говоря: не было этого, настоящая жизнь только началась. Но – всё же. Он ведь откровенен был с ней – как ни с кем.
Кстати – а почему? Конечно, элемент его мужского интереса ко мне отрицать нельзя. Но в этом ничего такого нет. Он здоровый мужчина, а в беседе каждого мужчины с каждой женщиной (равно как и наоборот) всегда присутствует некий сексуальный элемент: в слове, в жесте, во взгляде. Так что Сергей просто раздул из мухи слона, провел меня, как дурочку, основываясь на обычном человеческом знании.
Стыдно!
Если б только не странный гнев Александра Сергеевича, если бы – потом – не его желание остаться наедине с собой: будто ему неловко передо мной, будто он сам уличил себя в чем-то…
И почему так хочется вот сейчас, среди ночи, позвонить Сергею? Пусть объяснит! Но – что объяснять? Глупый и мучительный, однако, вопрос – в котором нет конкретного вопроса, а только тревога, непонятная, сосущая…
Я думал, она помчится к майору Петрову завтра же, но она позвонила лишь через неделю. Я было подивился крепости ее характера, но все выяснилось бытово, просто: Александр Сергеевич на неделю уезжал к родственникам в деревню. Сельский выходец, значит. Значит, самородок вдвойне и втройне.
Этих ехидных слов я Нине не сказал. Всему свое время.
Она была радостной.
– Вы знаете, Александр Сергеевич много о вас думал и решил, что был неправ. То есть он не совсем точно выразился. Он просто боится, что вас ждет что-то страшное, вернее, вы этого ждете, а тот, кто ждет, – дожидается, – тараторила она, боясь позабыть веские точные слова, обдуманные майором Петровым в деревне за окучиванием картошки или мичуринской прививкой рябины черноплодной к дроку дыролистному. – Он просил не обижаться на него и, если хотите, прийти поговорить, просто поговорить, не как с пациентом, а как с интересным человеком, которого он не до конца понял.
Она даже выдохнула после этого длинного периода – словно вынырнула из воды. Я же, не успела она закончить, все понял. Нет, не умница Александр Сергеевич. Он просто – хитер. По-деревенски хитер. Он понял, что свалял дурака, и решил, что пока – пока – лучше этого парня держать на глазах. Слишком опасен. Вон и Нина прискакала и первым делом: вопросы о нем. Обмишурился, промаху дал. Впустую проквакала его жаба, не перевесила интереса Нины к страшному человеку. (Хотя ведь, сучий хвост, ведь усмотрел что-то, значит, не без способностей, не без чутья. Я сам с чутьем, но таких способностей не имею. А он в самую середку заглянул. Но – никогда не допрет до конкретного: что хочу убить ее – и почему мне это нужно.)