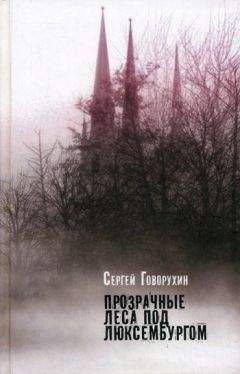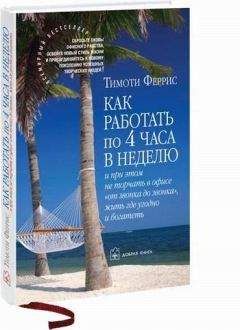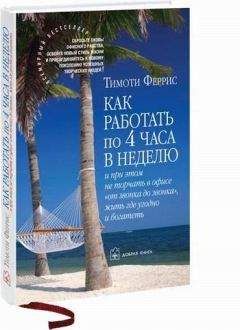Проводница поднялась.
– Бог с вами, курите. – И, обернувшись в дверях, неожиданно сказала. – Эх, ребятишки, живем мы, как кошка с собакой, мотаем друг другу нервы, а жизнь-то действительно рано или поздно кончается.
И вышла.
Наташа откинулась на диван.
– Куда едем? Зачем? – недоуменно пожала плечами она. – Как куда? Представлюсь твоим родителям, произведу неизгладимое впечатление – в общем, сжигаю мосты, Наташка…
– Так… – протянула Наташа. – Значит, в самом себе ты уже не уверен… И потом, что значит: произведешь впечатление?.. Лично на меня ты произвел самое отвратительное впечатление.
– Просто мы повстречались в тяжелый период моей жизни.
– Это запой, по-твоему, тяжелый период?
– А что, легкий? Попробовала бы…
– Господи, – вздохнула Наташа, – и с этим ничтожеством я собираюсь связать свою жизнь…
– И не говори, Наташка, – зевнул Левашов, – окрутила ты меня вокруг пальца.
По проходу катил тележку сонный буфетчик. Тележка была завалена бестолковой кондитерской снедью.
– Желаете что-нибудь, граждане? – флегматично спрашивал он.
– У вас есть конфеты с мышьяком? – спросила Наташа. – Для одного проходимца…
– Не держим, – не отреагировал буфетчик.
– Тогда шоколад «Вдохновение». Весь. Чтобы мне вдохновения до конца пути хватило…
Она набрала гору шоколада, раскрыла книжку и, читая, отправляла в рот аккуратные шоколадные брусочки с ореховой начинкой.
– Правильно мы сделали, что поехали, – неожиданно сказал Левашов. – Осточертело все! Клипы, халтура, водка эта… И с тем, кого знаешь, и с тем, кого не знаешь, еще чаще… – Он зевнул, прикрыл глаза. – Хочется вдохнуть свежего воздуха… – замолчал на полуфразе Левашов, и когда Наташа позвала его, выяснилось, что он уже спит.
Она накрыла его одеялом, погасила свет и еще долго сидела под ночником, удивляясь внезапному счастью, изменившему ее судьбу, на которую она, казалось, давно махнула рукой.
Тайга постепенно переходила в однообразную лесотундру, и чувствовалось, что там очень холодно, за окном, – до Полярного круга оставалось совсем немного.
На протяжении всей дороги пассажиров сопровождали изречения древних греков на покосившихся станционных постах. Белыми буквами на красном кумаче.
– Азы философии, – усмехнулся Левашов. – Похоже, древние греки прочно оккупировали сознание местного населения.
Показалась станция.
– Вон мои! – вскрикнула Наташа и замахала в окно рукой. Они спустились на платформу. Было действительно очень холодно – у Левашова защипало лицо, и он подумал, как, вероятно, глупо выглядит в пижонской курточке и вязанной шапочке на таком морозе.
– Теперь я понимаю, – застуженно произнес Левашов, поглубже натягивая шапку, – откуда у тебя такой морозоустойчивый характер.
Отец Наташи оказался крупным, степенным, мать, напротив, – маленькой, кроткой, с еле уловимыми девчоночьими чертами лица.
– Зяблик мой! – обнял Наташу отец.
– Ой, папка! – Наташа прижалась к отцу и заплакала.
Левашов неловко топтался рядом.
– А это Женя, – представила Левашова Наташа.
– Надежда Ивановна.
– Георгий Васильевич.
С трудом уселись в старый «запорожец», с горем пополам тронулись.
– Машина у меня, – сказал Георгий Васильевич, – Наташке ровесница.
Надежда Ивановна и Наташа оживленно шептались на заднем сиденье, потом прижались друг к другу и затихли.
Левашов смотрел на город: заброшенный, безликий, покрытый сплошным черным налетом.
– Шахтная пыль, – заметив взгляд Левашова, пояснил Георгий Васильевич, – так и живем…
Подъехали к старому четырехэтажному дому с осыпающимся фасадом.
В квартире все говорило о крепкой хозяйской руке: и свежевыкрашенный пол, и высокие, отливающие матовой белизной потолки, и добротно пригнанные наличники, и прочие бытовые мелочи.
Все носило щемящий отпечаток глубинки, где некуда больше пойти, где дом – это и крепость, и Большой зал консерватории, и кинотеатр, и последний приют.
Где уважительно относятся к репродукциям Шишкина и игрушечным страстям Айвазовского, где трехпрограммный приемник на кухне и цветной телевизор в гостиной бережно накрыты мягкими плетеными салфетками как основные источники радости и информации.
Стол в гостиной был уставлен теми небогатыми закусками, на которые расщедривается короткое северное лето: хрустящими подберезовиками в глиняных плошках, копченым хариусом, резкими и острыми овощными салатами.
– По маленькой с мороза? – предложил Георгий Васильевич. – А потом пельмени из оленины – мать у нас неповторимо их стряпает.
В соседней комнате женщины разбирали подарки. Оттуда то и дело доносилось: «Вы с ума сошли, Наталья!» – «Да ладно тебе, мам…» – «Это же какие деньги!..»
– Ты кем мне будешь, а, Евгений? – спросил Георгий Васильевич.
– Официально – никем, – ответил Левашов.
– Ну, брачного свидетельства я с тебя, положим, и не спрашиваю.
– Да я бы и не смог вам его предоставить. Мы знакомы всего неделю…
– Неделю? – переспросил Георгий Васильевич. – А ты… ты уверен, что это всерьез?
Левашов ответил не сразу. Мгновение он еще думал, какие убедительные слова подобрать для этого человека, и вдруг понял, что в этом доме уважают только простую ясность и искренность чувств.
– Я люблю Наташу, – спокойно и убежденно произнес Левашов. – Ближе нее у меня никого нет. Никого.
Георгий Васильевич смотрел на Левашова, будто сверяя его слова и мысли на каком-то невидимом детекторе.
– Ты прости меня за этот допрос, у меня ведь тоже ближе нее – никого… – сказал он. – Она дождалась тебя. Теперь я спокоен.
Левашов почувствовал, что вот-вот сорвется с нужного тона. И вновь, как это бывало не раз, увидел уходящую спину отца. Отца, с которым уже никогда вот так не поговоришь…
Появились женщины.
– Это тебе, пап, – Наташа положила на стол рубашку, галстук и запонки с золотым покрытием.
Георгий Васильевич перебирал подарки, с трудом представляя свое большое, с въевшейся угольной пылью тело в изяществе и блеске непривычных вещей.
– И куда я в этом? – недоуменно спросил он. – На тот свет?
Но, судя по всему, остался доволен.
Надежда Ивановна безостановочно подкладывала Левашову, и если бы не впечатляющие дозы Георгия Васильевича, его бы совсем сморило за столом.
– Много ешь – соответственно пей, – советовал Георгий Васильевич. – Хотя, по-моему, это говорится наоборот…
– По-моему, тоже, – попыталась вмешаться Наташа. – Пап, он и так порой меры не знает…
– Ну и хорошо, – отвечал Георгий Васильевич. – Он же мужик, а не облако в штанах. Будь здоров, Евгений. – И опрокидывал стопку.
– Жора! – возмущалась Надежда Ивановна. – Несешь черт-те что! Что человек о нас подумает?
– Все правильно он подумает. А, Евгений?
– Это верно, – неопределенно отвечал Левашов.
Он любил эти широкие непритязательные застолья, когда много пьют и вкусно едят, а в конце обязательно поют бесконечные и грустные русские песни. Когда все просто и непридуманно, и говорится то, о чем сказано не раз, вспоминаются близкие – живые и давно ушедшие, война, эвакуация, родственники, живущие в далеких городах, прошедшие вечеринки и десятки других житейских дел.
Сам Левашов вращался в совершенно противоположной среде, где в основном говорили о непроходящей роли искусства, политических настроениях, финансовых неудачах, свободомыслии того или иного издания, подробностях недавней премьеры, что всегда раздражало его, вызывая невольную, порой агрессивную реакцию против всей этой претенциозности, лжи и плохо скрываемого ханжества.
Постелили им в Наташиной комнате.
Все здесь было прежним: и письменный стол, и книжные полки, и небольшое трюмо в углу. Только вместо панцирной кровати с никелированными шишечками, прослужившей Наташе долгие годы, сейчас одиноко и неуместно, как любая новая вещь в привычной обстановке, стояла широкая двуспальная тахта.
– Надо же! – развела руками Наташа. – Тахту купили к нашему приезду. Ты обрати внимание, как мастерски расставлены сети.
Левашов разглядывал галерею Наташиных фотографий в аккуратно пригнанных рамочках: Наташеньке два годика, утренник в детском саду, первый класс, восьмой, выпускной вечер.
– А ты ничего была в детстве, – заключил он.
Наташа прислонилась к окну.
За окном было необыкновенно светло от падающего снега.
– Завтра город будет изумительно белым. И мы пойдем в тундру на лыжах. Ты умеешь ходить на лыжах, Левашов? У отца замечательные лыжи на резиновых креплениях. Широкие, крепкие… – Она помолчала. – Они до сих пор ждут: вдруг у меня что-то не заладится, и я вернусь. Отец каждый год обои переклеивает…
Город спал.
Георгий Васильевич и Левашов сидели на кухне. Георгий Васильевич набивал трубку, тщательно приминая табак указательным пальцем.