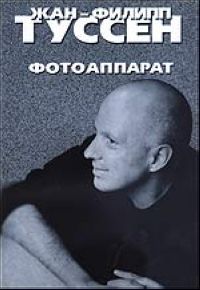Взлет был закончен; самолет, урча мотором, медленно летел к Берлину. Я смотрел в бескрайнее небо — оно было белесым, полупрозрачным, совсем чуть-чуть подсиненным. Мы летели над мирной сельской местностью, светило солнце, по небу плавали лоскутья облаков. Внизу пошли зеленые и желтые квадраты полей, и вскоре вдали встали первые пригороды Берлина — огромные серые скопления блочных домов, перемежаемые зеленоватыми зданиями Фридрихсхайна. Отсюда, с высоты трех-четырех сотен футов, огромный, раскинувшийся во все стороны город, чьи просторы нельзя было окинуть взглядом, казался странно плоским, придавленным, выровненным. Он выглядел скоплением похожих четырехугольников, в восточной части собранных из блоков, в западной — чуть более разнообразных, с пятнами лесов; иногда их пересекала длинная артерия, с которой сползали на улицы крохотные машинки. Со своего места в хвосте парившего в небесах самолета я узнавал кое-какие памятники, чьи контуры вырисовывались под нами: Зигессоле на перекрестке полупустых проспектов или Рейхстаг, массивный черный камень эспланады, перед которой с десяток людей бегали за мячом — маленькие нелепые фигурки на газоне. Дальше, за Бранденбургскими воротами, вблизи моста Потсдаммерштрассе на фоне золота и металла Библиотеки и Филармонии вырисовывались похожие на крылья разломанного воздушного змея высокие мачты стоявших на рейде вдоль Шпрее кораблей. Мой взгляд скользил по крышам — мы сейчас летели над домами — по заводам, складам, по бесконечным пустырям, автодорогам, рельсам железных дорог, по мостам, по теннисным кортам, по спортплощадкам в жилых кварталах; и опять дома и парки, и в их скоплении я вдруг видел бассейн, вокруг которого лежали сотни купальщиков, и чей-нибудь ребенок в купальном костюме поднимал ладонь к глазам, а другой приветственно махал нам вслед. Урсула в шлеме, глядя вперед внимательно и пронзительно, уже поворачивала штурвал и мягко накреняла самолет, чтобы широким кругом развернуться. Я смотрел, как ложатся внизу улицы и проспекты, встают одноэтажные, многоэтажные дома, кварталы сцепляются в ровные квадраты и, в то время, как машина двигалась на север, вдоль канала Шпрее, я наблюдал поразительное явление — куда ни глянь, везде велись работы. Со всех сторон виднелись ямы, кучи песка, разрытые проспекты, ремонтируемые дома, подъемные краны, экскаваторы, заборы, металлические сетки; в одних местах стройка заканчивалась, где-то только начиналась — например, в дыры лили фундамент или на бетонной основе переплетали несколько прутов или уже наметили конструкцию, зачали первый этаж, установили голую, похожую на скелет арматуру и оставили стоять так, без дверей, без окон, прикрыв проемы прозрачной пленкой, развевающейся на ветру. Этим воскресным днем стройки оставили на произвол судьбы, бросили без присмотра, огромные, желтые с рыжим подъемные краны бездельничали в своих загонах, грузовики застыли на дорожках, вагончики стояли запертые (прохожим было любопытно, что делается за забором, и они, воспользовавшись выходным, безнаказанно подглядывали сквозь дырки в заборах).
Мы опустились слишком низко — вдруг рядом появилась телебашня на Александерплац, самолет был метрах в пятидесяти от верхушки, на которой молча мигал красный огонек. Пригнувшись к окошку, я смотрел на высокий прямой силуэт башни, которую мы теперь медленно огибали, словно Урсуле перед тем, как двигаться в обратный путь, захотелось поставить метку, так что у меня было довольно времени подробно изучить большой серебристый шар, высившийся над огромным передатчиком. Я не знал, работает ли телебашня, но едва мысленно задал себе этот вопрос, Урсула, не предупредив нас с Джоном, внезапно накренила самолет, и тот спикировал в направлении набережной. Двигаясь по широкой падающей кривой, мы чуть не на бреющем полете миновали Дворец Республики, промчались над головами прохожих на площади — те посмотрели нам вслед, — удачно миновали бесстрашных Маркса с Энгельсом на бронзовом постаменте и, закончив этот восьмидесятиградусный вираж, с ускорением пошли набирать высоту, пока не добрались до верха башни, здесь какую-то десятую долю секунды мы любовались застывшими лицами посетителей, к которым приближались со скоростью 250 километров в час, но Урсула успела наклонить самолет, чтобы спланировать вдоль застекленного фасада ресторана, где мы мельком заметили несколько парочек, спокойно пьющих кофе. Теперь я не смотрел наружу, со своего места в хвосте самолета, где не хватало пространства для ног — их пришлось скрючить, голени приклеились к обивке — я глядел то на плечо Урсулы, цигейковый воротник ее летной куртки, то на стрелки высотометра или счетчика оборотов, в бешенстве скачущие по экранам. Джон обернулся посмотреть, как у меня дела и прорычал что-то, чего я не расслышал в свисте мотора и ветра, рывками влетавшего в кабину и относившего в сторону длинные пряди его волос, потом показал мне большой палец, запутавшийся в складках куртки и шарфа — Джон тоже был зажат на своем сиденье — так что жест вышел и восхищенным и неуклюжим. Глаза Джона задумчиво поблескивали, в них читалась смесь невыразимого лукавства и покоя, заглянув в них, когда Джон повернулся, на этот раз чтобы безмолвно поделиться со мной радостью человека, только что удачно избегнувшего катастрофы, я решил — там, в берлинском небе, мне это пришло в голову впервые, — что блеском глаз, равно как и улыбкой, загадочной, державшейся на губах чуть дольше, чем требовалось, уверенной посадкой, лицом, которое сейчас, в тот миг, когда оно было обращено ко мне, приобрело нужное выражение, он напоминал Джоконду.
На следующей неделе я решил сходить в музей Далем. Мне долго не удавалось побывать там, между тем я каждый раз с огромным удовольствием бродил по старым деревянным залам, раздумчиво стоял перед картинами или, устремив взгляд на полотно, присаживался на банкетку и давал волю мечтам. Когда-то на банкетке я просто отдыхал, устав ходить, но вскоре вне зависимости от того, насколько бодро я себя чувствовал, стал садиться, находя в этом времяпрепровождении самостоятельную ценность, так что иногда, едва войдя в музей, спешил найти свободную банкетку. Я мог сидеть часами, безмятежно работая над книгой, наслаждаясь одиночеством, почти не отвлекаясь на бесшумную возню служителей. Случалось, я доставал блокнот и вносил туда свои заметки, как делал бы это в какой-нибудь библиотеке или в бассейне (не доставало разве что очков для плавания на лбу). Я вспоминаю чудные часы, которые провел однажды в зале Лувра: там стояла длинная бархатная банкетка, напоминавшая лодку, бросившую якорь среди озерной глади драгоценного паркета. Я, опершись ладонью о потертый бархат, изучал картину Тициана, висящую под самым потолком — «Брак в Кане Галилейской», и вся суматоха, вереницы тех, кто смотрел и кто не посмотрел, толпа туристов, жаждущих сфотографироваться с пирующими, остались где-то за спиной.
В те времена, когда музейные коллекции Берлина еще не выставляли в новом здании Тиргартена, их можно было посмотреть в большом музейном комплексе в Далеме, просторном сооружении с плоской крышей и матовыми стеклами — его архитектура, облицовка, огромные безлюдные пространства, холл, лестницы подошли бы, скорее, какой-нибудь большой международной организации, чем собранию картин. Живописи отдали самую старую часть здания по соседству с Музеем искусств Азии и парочкой других таких же темных музеев: музеем искусства Индии, исламского искусства и этнографии (где в полутьме высвечивалась вдруг какая-нибудь доколумбовская статуэтка). На эти доколумбовы красоты я натыкался чуть не каждый раз, поскольку заходил не через дверь картинной галереи, а через главный вход. Я, не замедляя шага, шел мимо дремавших в витринах древностей к потайной дверце, о существовании которой знал, и оставляя позади сокровища тысячелетий, проходил века в обратном направлении, спускаясь в Ренессанс через французскую и английскую живопись восемнадцатого века, всех этих Ларгильеров, Хоппнеров, Натье, Буше и Рейбурнов, по которым мимоходом бесстрастно пробегал взглядом. Я старательно держал нейтралитет, будучи уверен в том, что мерой можно пренебречь в восторге, а не в осуждении. Глупо возводить в добродетель свое невежество, ущербность, неспособность соблазняться и любить (вот мысли, делающие мне честь, думал я, минуя эту жуткую мазню).
Мой завтрак в теплой атмосфере рабочего общения с самим собой закончился, и я готов был к путешествию в музей. В Далеме, выйдя из автобуса, я решил, что не наелся, и купил сэндвич. Я осмотрел его (зря покупал). Это была довольно маленькая булка, похожая на книжку in octavo, которую раскрыли, вымазали маслом и сунули внутрь сыр, сухой, прямоугольный, выгнутый, слишком широкий, свешивающийся по краям. Идя от остановки, я успел обгрызть торчавшие края и только надкусил сэндвич, как оказался у лестницы в музей. Ступеньки были позади, и я уже покупал билет в кассе. Сжимая в руке сэндвич, я стоял и думал, что мне с ним делать, куснул в последний раз и стал высматривать несуществующую урну, решил было положить сэндвич в карман, но вовремя сообразив, что он туда не влезет, во всяком случае горизонтально (а по-другому мне будет неловко ходить, не говоря уж о том, что все мои блокноты промаслятся), предпочел войти в музей с сэндвичем в руке (не в раздевалку же его сдавать).