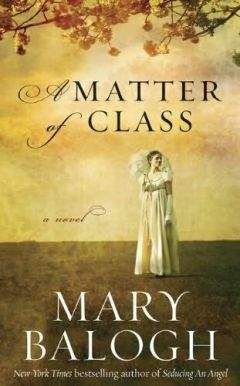Ознакомительная версия.
Подошел, сгреб ее в охапку, поцеловал в лоб, в эти дрожащие губы.
– Ну, прости меня. Я вовсе не хотел сказать, что с такими, как ты, можно поступать так, как мышеловка поступает с мышкой. Безнаказанно ломать хребет за кусок сыра.
Она подняла абсолютно сухие глаза, и я увидел в них борьбу с желанием двинуть мне между ног:
– С какими «такими»? Ты что, даже не считаешь меня человеком? По-твоему, я кто? Что ты вообще обо мне знаешь?!
Она хотела вырваться, я не позволил. Что нам оставалось? Я целовал ее и бормотал, что порой бываю груб, неадекватен и говорю не то, что думаю, из одного лишь любопытства – проверить реакцию собеседника. Она не верила, почти поверила, сделала вид, что совсем поверила.
– Я умею читать по губам, – неожиданно сказала Вика, – я поймала окончание, когда ты так замечательно сказал о трусости. «За все, что не сбылось»… Какая горькая правда. Ведь так и будет! Мы не можем решиться на что-то всю жизнь, в нас живет эта неуверенность. В том, что мы не можем себе позволить то или другое, добровольно лишаем себя почти всего, что действительно во благо. Оставляем от хорошего крохи, о которых затем вспоминаем, называя эти пустяки «лучшими, главными моментами жизни». Все усложняем, подготавливая что-то вроде твоего откровения сейчас. Считаем, что нам уже поздно даже мечтать о многом…
Она права. Ах, как же она права! Если и впрямь бес может поселиться и овладеть человеком, то имя бесу – Отрицание. Отрицаем свои возможности, всю жизнь давая себе обещание начать с понедельника новую жизнь. И вот в один из понедельников, ранним летним утром кто-то из нас просыпается с ощущением, что вот он, тот самый день, который принесет осуществление желания обновления. Кто-то пружинисто вскакивает с кровати, ноги сами собой оказываются обутыми в кроссовки, пылившиеся без дела лет двадцать. Он бежит через поле, поднимаясь на возвышенность, и несется с нее, раскинув руки в неистовстве внезапно вспыхнувшей любви к человечеству. На пути его встречается озеро. Выскользнув из жарких одежд своих, он ныряет и, обожженный холодом, принимается грести резкими саженками. Подбадривает себя ухарскими вскриками. Вылезши на твердь, отряхивается, как собака, и с восторгом от нахлынувшего тепла натягивает одежду прямо на мокрое, голое тело. Парит над землей к дому, говоря себе: «Вот же оно! Наконец-то! Смог! Что ж я раньше-то? А хрен с ним, теперь-то я не боюсь, теперь все будет иначе. Жизнь, я буду любить тебя каждый день!» Он подбегает к подъезду, его сознание беззаботно отмечает приткнувшуюся неподалеку «Скорую помощь». Он не обращает никакого внимания, вместо лифта возносится пешком на свой этаж, входит в квартиру, наводненную расстроенно-деловитыми людьми. Никто из них его не узнает, он навеки стал невидимкой… Ах, как она права. Зачем вместо обычая делать себе хорошо мы выбираем обычай вкушать водку? Быть может, оттого что водка ненадолго лечит изнеможенную душу? Я теперь должен навсегда попрощаться с Олей. Вспомнить ее глаза – этого будет достаточно, чтобы вспомнить ее всю.
Глаза любимых женщин в случайном и счастливом сочетании блеска и формы действуют не сразу. Они как разрастающаяся в темноте вспышка света, которая в отсутствие хозяйки продолжает греть душу, слегка мучая ее. В молодости моя жена занималась бальными танцами, была смазливой стрекозой с египетскими глазами и загорелыми конечностями, а ее лопатки напоминали недоразвитые крылья ангела. Потом Олины глаза превратились в чистые драгоценные камни, открывающие свою суть, лишь если воспроизвести их в памяти. Вот тогда их брызжущий с граней жар шевелился и засыпал глаза теплым океанским песком. Но это в памяти, а в жизни ее глаза были невероятно прозрачной голубизны, оттененной черными, по-восточному огромными ресницами, и от каждого в сторону висков раскрывались веером тонкие, бесконечно милые морщинки. У нее были густые каштановые волосы и лоб ровный и высокий – очевидный признак ума, придававший ей еще больше очарования. Вообще, кроме, быть может, совсем маленьких, почти детских ладоней, в ней невозможно было найти хоть сколько-нибудь существенного изъяна, и я любил ее, пропуская мимо сердца ее колкости, не замечая железные углы ее характера. Был ли во всем этом какой-то смысл? А в чем-то он есть? В определенной степени эволюция смысла – это эволюция бессмыслицы.
С кладбища мы ушли, тесно прижавшись друг к другу, и больше я ни разу не обернулся в сторону ангела с зеленым лицом. Что было, то было, а сейчас, в настоящем, все двигалось к развязке.
Многие зрители терпеть не могут счастливых развязок. Чувствуют себя обманутыми, потому что судьбу не сломать и зло в порядке вещей. Камнепад, сель, лавина – все эти бичи человеков, замирающие в трех вершках над обреченным городом, ведут себя с неестественной безнравственностью. И я не любитель хеппи-энда. Чувствовал, что совсем скоро все начнет происходить очень быстро и вовсе не будет похоже на приключение в желтом школьном автобусе.
Вика не перебивала моих мыслей, зато в них совершенно бесцеремонно вмешалось неожиданное существо. Вдоль забора Норвуда исстари росли вязы, под вторым слева сидела белка. При входе был устроен небольшой питьевой фонтанчик, и раньше, чем я обратил внимание на ее движение, белка вскарабкалась на край фонтанчика и демонстративно принялась тереться мордочкой о его стальную трубку, при этом требовательно цыкая, словом, всячески привлекала к себе внимание. Я попросил Вику посмотреть, что сейчас будет, подошел и нажал на пуск воды. Белка принялась пить и пила, казалось, целую вечность, растворяя в себе новую порцию сублимированной жизни. Когда она закончила, у меня слегка занемел палец. Белка фыркнула, уж не знаю, чем это было: благодарностью или чем-то особенно беличьим.
– Ты добрый, – Вика подошла, и я с оторопью заметил, что она плачет. – Ты добрый, точно дошкольник из хорошей семьи. Хотя такие редкость.
– Знаешь, Вика, те, кто считает себя добряками, все сплошь и рядом посещают православную церковь. Она почти ничего не требует от совести взамен тех утешений, которые сулит.
– Не богохульствуй.
– А я и не…
– Нет, богохульствуешь. Оставь хоть это в покое. Многим там хорошо, и православие – лучший из русских обычаев.
Я подумал, что сказанное ею почти в точности продолжает мою недавнюю мысль насчет водки, и промолчал.
А потом мы долго ехали в такси. Я сказал, что мне непременно нужно переехать из моего насквозь простуженного загородного дома, в который я совершенно не хотел возвращаться, настолько там было промозгло, и даже установленный хозяином дополнительный обогреватель не спасал от сквозняков из шкафов и электрических розеток. У хозяина, кроме меня, совсем не стало постояльцев, и дом болтался на нем, словно одежда на кресте из досок. Я хотел переехать в центр, на Мэрилебон-стрит, там сдавали отличную квартиру, где я думал поселиться под своей настоящей фамилией. Встреча с Феликсом, по словам Вики, ликовавшим после смерти Микаэла и уже успевшим оформить предварительную заявку на танзанийское месторождение, обязывала меня выйти из того полулегального состояния, в котором я пребывал с момента своего появления в Англии. Наличие же документов на имя гражданина Британии могло вызвать у Феликса наивысшую степень подозрительности, тем самым спустив в унитаз жизни всю комбинацию, родившуюся в Москве, на улице, называвшейся когда-то Потылиха.
* * *
Я сознательно не рассказывал ничего ни про эту улицу, ни про дом с колоннами, убранный куда-то в тихие дворы и укрывший свой по-московски красивый фасад за высокой и нелепой, зеленой и сплошной оградой. Все как всегда: никакой вывески, из примет лишь скромный оранжевый маячок, который всякий раз оживал, когда ворота отъезжали в сторону, пропуская через себя очередной автомобиль. Здесь, в этом трехэтажном доме, работали озабоченные люди в штатском, а на вахте внутри стояли прапорщик в зеленой форме и прапорщик в черной форме американского образца (высокие ботинки, засученные рукава, бейсбольная шапка). В руках у черного прапорщика был рогатый пистолет-пулемет девятимиллиметрового калибра, а у зеленого глаза лучились, словно деревенский, раскрытый навстречу рассвету подсолнух.
Прапорщикам показывали удостоверения в развернутом виде как на входе, так и на выходе. Однажды мимо них прошло сразу несколько человек, которые вообще никаких удостоверений не имели. Одним из них был я – с тревожным взглядом полярни-ка, пережившего шестимесячную ночь, другим – толстый Витя Бут, гордо пронесший сквозь турникет входа в здание свой живот и крупную слоновью голову, третьим – маленький генерал со смешными усами и бачками, делавшими его похожим на техасского коневода. Потом еще кое-кто; их примет, а тем более имен я не назову даже под пыткой.
Все собрались в честь пресловутого «белого китайца», чье присутствие в определенных кругах сделалось столь навязчивым, что грозило перевернуть всякое привычное представление о старом добром кокаиново-героиновом мире. «Китаец» привлекал смешной ценой, простотой приготовления. Его не надо было выращивать и нанимать армии для охраны и транспортировки. Достаточно было комнатушки в спальном районе, сарая, гаража, реагентов из магазина и оборудования из школьного кабинета химии. Из килограмма «китайца» получалось двадцать миллионов доз. «Китаец» вполне оправдывал свое название и плодился с устрашающей скоростью, как и положено настоящему китайцу. Опийные торчки, пересевшие на «белого китайца», прямо на его спине услужливо доставлялись в тамбур, а оттуда в ад, без задержек.
Ознакомительная версия.