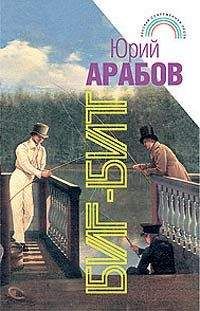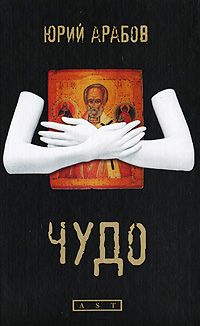В этом была часть правды. В районной библиотеке, расположенной напротив его московской квартирки, Федор Николаевич не нашел ни Достоевского, ни Толстого. Вместо них на полках стояли литературные эквиваленты тех, о которых писала сожженная газетка. Объяснялась ситуация просто, — старый фонд книг износился, а на приобретение новых «нечитаемых» произведений у библиотеки после погрома шпионского фонда Сороса просто не было средств. Сорос хоть, как говорили, и нагрел руки на дефолте, а все же отстегивал русским библиотекам кое-какие бабки, которые можно было истратить, например, на выписывание «Знамени», «Нового мира» или какого-нибудь непопулярного классика. И задача, по-видимому, состояла в том, чтобы подобных шпионов, как Сорос, стало бы не меньше, а больше. «А вот за эту мысль тебя посадят, — испугался за рулем Федор Николаевич. — Или дадут по морде. Точно дадут! Ну хватит, хватит! — заорал он сам на себя. Ну что тебе до какого-то Сороса?! Что ты сам себе душу тянешь? Ступай с миром, живи и давай жить другим!» «А все-таки при брежневском социализме было свободней! — раздался в душе тот же мерзкий голосок. — Выбора было больше, я точно тебе говорю!» «Ну и не надо ничего трогать! — взвился Федор Николаевич. — Россия страна инерции. Оттого, что ее масса слишком велика. Читали бы Солженицына и зевали бы на съездах — не самый худший вариант!»
Несколько лет назад Федор рассчитал от нечего делать российский цикл устаканивания реформ, устаканивания их до приемлемого для обывателя состояния, когда можно жить, не опасаясь за свою шкуру, и даже кое-как богатеть духовно и материально, наращивая жирок. Цикл оказался длиною в 50 лет.
Примерно 50 лет потребовалось после реформы 1861 года, чтобы страна окрепла и встала на ноги. И после 1917-го, через полвека, к середине 60-х, жизнь стала более или менее сносной. Теперь же, если отсчитывать с 1991 года, русское общество переведет дух в 2040-м… Но у Фетисова не было времени на этот вдох. Девяносто лет он жить не собирался и теперь, в сорок восемь, благодарил Бога за каждый прожитый день.
От Юрьев-Польского до Симы шла полоса елового леса с белыми прорезями берез. На этом участке пути Федор инстинктивно подбавлял газ, перепрыгивая через битый асфальт и скрипя обоими мостами своего железного скакуна. Ходили слухи, что еще недавно здесь раскулачивали москвичей, останавливая их под видом милиции и отбирая машины. Справа ельник, слева березняк, и ни одной машины навстречу. Глушь и дикость, будто едешь за Уральским хребтом. Только впереди угадывается дымок горящих все лето торфяников. Один мужик сказал Федору, что леса в это лето поджигают специально, поджигают богатые, потому что покупать землю с горелым лесом будет дешевле, чем со здоровым. Федор Николаевич не поверил мужику, однако отметил про себя, что подобное подозрение, конечно же, говорит о многом.
Внезапно впереди себя, у лесной обочины, он увидел голосующую фигурку. Чуть сбавив ход, хотя останавливаться не собирался, Федор чиркнул глазом по автостопщику. Им оказалась девушка эмтивишного вида, то есть, изможденно-крашеная. Чем изможденная, неясно, то ли молодежным сексом, то ли духовными исканиями. Но так пока не красились во Владимирской области. Гулящая, беженка? Скорее всего, студентка московского вуза. Удивляясь самому себе, Федор Николаевич сбросил скорость. Тормозные колодки жалобно заскрипели, прося о замене. Машина правым колесом мягко вошла в сухую траву и застыла как вкопанная, переваривая что-то внутри и раздраженно урча.
— Вы не до Симы едете? — раздался над ухом небесный голос.
— До нее.
— А можно, я с вами?
— Садись.
— Только у меня нет денег, — прощебетала девица, плюхаясь на переднее сиденье.
— У меня тоже нет, — на всякий случай сострил Федор, хотя девица годилась ему в дочери.
Нажал на педали, и железный скакун, взревев, будто его кастрировали, продолжил свой бег.
— Спасибо, — поблагодарила попутчица и представилась: — Настя Эппл!
— Эппл… это что? — не понял Фетисов, потому что отвык от подобных примочек.
В кабаках, в которых он играл, слэнг был в основном блатарский, потому что все посетители уже сидели или только собирались садиться.
— Эппл. Яблоко по-английски.
— А-а, знаю. Это такая компьютерная фирма. Еще политическая партия.
— Мы против компьютеров и политики, — отрубила Настя Эппл. — Нету никакой политики. Есть только самооборона.
— Скинхеды, что ли?
— Какие, к черту, скинхеды?! Я же говорю тебе, кулек, я — Настя Эппл! — довольно нервно отрубила девица, без предупреждения переходя на «ты».
«Неужели?» — шевельнулось на дне души Федора Николаевича.
— Фет, — кратко представился он, решившись.
Наступило молчание, будто Федор сморозил полную дичь.
— Ты… Вы что? — ему показалось, что в голосе попутчицы послышалось волнение. — Вы… композитор?
— Какой, к черту, композитор? Я — Фет, ты что, герлуха, про меня ничего не слыхала?
Он поглядел на нее и заметил, что рот у девицы сложен трубочкой, глаза открыты, будто она встретила на пути чудо-юдо.
— Будь проще! — вдруг прошептала она, как заклинание.
— Будь проще, пожалуйста, — пролепетал Фетисов, чувствуя, что сейчас заплачет.
— Вы в самом деле тот самый Фет?..
— Тот самый, тот самый! — заорал Федор и вертанул руль так, что машина чуть не опрокинулась. — Паспорт, что ли, тебе показать?
— Вам же Джон письмо прислал! — простонала Настя, елозя всеми своими конечностями. — Я не могу! Я сейчас сделаю! Высадите меня!
— Вообще-то не Джон, а Дерек Тэйлор, — решил восстановить правду Федор Николаевич, — битловский пресс-секретарь.
— И в Англии вы были? Мне говорил Вася Колин! Вы же встречались с Ленноном!
— Честно говоря, это вранье, — признался Федор Николаевич. — Не был я в Англии. Не выпустили меня. Ну и…
Его память кольнуло прошлое. Как кинопробы у дяди Стасика завернул худсовет студии. А потом прикрыли и картину, — министерство не договорилось с зарубежной стороной об экспедиции, а в России режиссер снимать отказался, говоря о недостоверности подобного подхода. Группа сильно грустила об утерянном Рае, но Станислав Львович, похоже, радовался в душе такому обороту дел. Сценарий был явно плох, и получилась бы сладчайшая залепуха. А так режиссер-коммунист сохранял лицо и даже переходил на время в отряд полугонимых.
— Все равно, вы — человек-легенда, — вывела девица, успокаивая этим самое себя. — И не прекословьте! — вскричала она. — Именно вы — основатель русского рока!
— Кстати, мы только думали, что играем рок, а на самом деле это был биг-бит, — не сдавался Фет в своем самоуничижении.
— А какая разница? — не поняла Настя Эппл.
— А черт его знает. Биг-бит примитивней, что ли. Предполагает только гитары да ударник. Исходная форма. Типа арифметики.
— Я тоже сочиняю, — гордо сказала Настя. — Молодежь приветствует исходные формы. Чем исходней, тем лучше.
— А про что ты пишешь, про любовь?
— А вот про это.
Из кожаного, довольно дорогого рюкзачка она вытащила деревянный приклад. К нему изоляцией был приверчен небольшой ствол, крашенный черной блестящей эмалью.
«Влип! — ужаснулся про себя человек-легенда. — Ведь давал себе зарок никого не сажать в машину!»
— Мужик, дэньги гони, дэньги! — произнесла девица с кавказским акцентом, наставляя ствол на шофера.
— Не дам, — отрезал Фет, хотя и покрылся со спины позорным потом. Самому нужны.
— Ну и правильно, — согласилась Настя, пряча обрез в рюкзачок. — Нам деньги ни к чему. Мы приучили себя жить без денег.
— Он заряжен?
— Нет.
— А если арестуют?
— Скажу, что охотилась. Сейчас много зверья из Шатуры пришло. От пожаров. И лоси, и кабаны.
— Ненавижу охоту! — не сдержался Федор Николаевич.
— Я сама ненавижу, — поддержала его Настя. — Охотников мы изведем. И рыболовов. Мужики проклятые! Рыбачок — вообще враг всего живого. Видал, сколько на берегах Пекши мусора?
Пекша была местная речушка со студеной чистой водой. Перегороженная плотиной, она разливалась наподобие Волги недалеко от дачного поселка, в котором жил Фетисов.
— Зря ты так на рыбаков, — вступился за них Федор Николаевич. Вспомни апостолов.
— Так тогда сколько рыбы водилось! — не поддержала его попутчица. — На каждого апостола по тонне. А сейчас все должны стать вегетарианцами…
— А кто не захочет? — спросил на всякий случай Фетисов.
— Тому кердык, — сказала она, зевая. — Расскажи мне лучше про шестидесятые годы. Ведь это было клево, да? — Настя положила голову ему на плечо, и Федор обрадовался, что жена ему не глядит в спину.
— Клево, — подтвердил он неохотно и тут же поправился: — Вообще-то ничего клевого не было.
— Ну как же, сексуальная революция, музыка, марихуана!