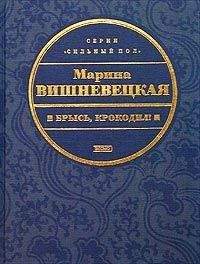Нина крикнула: «Про всегда я не знаю. А сегодня ты Карабас-Барабас! Я сегодня тебя не люблю!– и закрыла за ними стеклянную дверь, и опять закурила, и сказала с такою же дрожью, как когда-то на сцене про лунный свет: – Значит, ты меня, Игорек, осуждаешь… за волюнтаризм?! А ты знаешь, что меня окончательно доконало?– и взяла с подоконника храмик из спичек, скрупулезный и ладный, вполне сувенирного вида.– Это Влад прошлым летом привез, перед тем как отчалить в Америку… Иезуитский, конечно, подарочек, но по жизни все верно. Говорит, у Малого купил, а Малому соседка приносит – Пашка их продавать помогает, потому что у Пашки у самого мать почти что ослепла и какие-то сеточки вяжет из сутажа. А Тарадай вот – из спичек. Знаешь, он ведь по-прежнему в инвалидной коляске живет! Правда, славная церковка?– и, поймав его взгляд, может быть, и растерянный, может быть, и недобрый, отвернулась к окну и, царапая пальцем полупрозрачную наледь, неуверенно договорила: – Как ты думаешь, он их делает с верой или так, для продажи?»
Это было непросто – заставить себя не сказать то, что сразу вскипело на языке: даже если и с верой, тебе это все равно не зачтется!.. И, неловко погладив ее по плечу, он вздохнул: «Я надеюсь, что с верой»,– и почти в тот же миг различил в себе совершенно готовый пассаж и, вернувшись домой, без единой поправки его записал:
Тезис: человек создан по образу и подобию Божьему. Антитезис: человек грешен. Синтез: самооправдание длиной в жизнь – это и есть популярная теодицея.
Этой записью он тогда ограничился. Остальное, хотя бередило его еще день или два, трепыхалось почти что в подкорке и в слова не просилось… Просто вдруг он увидел картинку: океан, волны в рост человека, он на маленьком катере вместе с другими «зелеными» прикрывает собой китенка, а вокруг ни начальства, ни строгого ока Людмилы – лишь китобои и Бог!– или нет, что честнее: он прикован к забору последней ангарской электростанции, готовой вот-вот поглотить километры тайги и с десяток селений – готовой пусть скромными, но и его разработками! А потом он увидел совсем невозможное – дочку, странный, нежный росточек, ни в чем на него не похожий… но чтоб это-то и восхищало (а не так, как с Кириллом: иногда он и в самом деле безжалостно рихтовал его под себя), да, и чтоб непременно все эти бантики, фантики, залезание в мамины туфли, и решимость в пять лет «когда вырасту, выйду замуж за папу!», и еще много всякого теплого, нежного, самозабвенного,– то, что было еще разве в маме, а потом никогда и ни в ком – и все это твое и всегда с тобой рядом – интересно, а все-таки почему: никогда и ни в ком, даже в доброй и славной Натуше?– впрочем, стоп, вот об этом-то он еще не был готов…
Дождь почти что затих, дождь теперь шелестел, как мышонок, грызущий обои – на даче, куда он, конечно же, зря не поехал. И плечо уцелело бы…
Зазвонил телефон – нет, не зря не поехал!– и, взбодрив себя громким «ой-ё!», он решительно встал на колено и рванул себя вверх – на втором же сигнале звонок оборвался – но он все-таки бросился к трубке и услышал протяжный гудок. Это Нина, он не сомневался, конечно же, Нина набрала его номер и вдруг поняла, что сказать-то ей нечего, что случившееся с Аленкой, на четырнадцатом году обернувшейся вдруг Анджелой,– это крах всех ее обволакивающих потому, для того-то, благодаря.
Впрочем, Нина всегда ухитрялась, распуская полезший узор, сразу вывязать новый, ничуть не заботясь, что нитки гнилые и что завтра же все это снова полезет… Их последняя встреча случилась два года назад, тоже летом – на катере, на Москва-реке. Как когда-то хоккеем (Старшинов, передача Майорову, го-о-ол!), а потом схваткой Штирлица с Мюллером, вся страна была снова жива только тем, что показывал телевизор, но, скорее, теперь уже ни жива ни мертва – на дворе было первое лето чеченской войны. А еще это был их с Натушей медовый июнь, так совпало, и, может быть, не случайно совпало. Обнаружили это еще англичане, на собственном опыте, во второй мировой: до и после, и даже во время бомбежек люди чаще и много охотней, чем в мирные дни, занимаются сексом (да, скатол, страх, любовь!).
Познакомившись в магазине, где она выбирала себе телевизор – на десятке экранов в это самое время наши внутренние войска и ОМОН штурмовали больницу в Буденновске,– выбирала и плакала, он стоял с нею рядом, как и все в этот миг, в совершенном оцепенении – в переполненных окнах родильного отделения то ли роженицы, то ли медсестры, что-то страшно крича, потрясали кусками разорванных простыней,– а потом она промокнула глаза, обернулась к нему, очень маленькая и ладная, вся открытая настежь, не ему – накатившему ужасу, но открытая вся, целиком,– он сказал, что готов ей помочь сделать правильный выбор, а потом уже все покатилось само: не Funai, как она собиралась, а все-таки Supra, и поймал ей такси, и довез, и занес телевизор в квартиру, и в субботу пришел подключить его к общей антенне – и опять в телевизоре были небритые лица чеченцев и больничные коридоры, до отказа забитые их заложниками, а неделю назад еще просто больными людьми… И опять были слезы в ее светло-карих глазах и бессильная ярость, а потом их швырнуло друг к другу – в первый раз все по той же причине: между ужасом и любовью – две мензурки со спиртом… Он всегда это знал, а она удивленно шептала: «Стыдно! Жить, пить, есть, спать стыдно, больно… а все-таки сладко! Обними меня! Мы, наверное, волки!»
В это лето он был ею полон настолько, что даже писал вслед за ней, то есть много корявее и значительно выспренней, чем обычно:
Мы сидим на останкинской игле. Мы – люди конченые. Для чувства комфорта нам уже недостаточно льющего за окном дождя, нам необходимы потоки крови.
Мы не боремся с этой войной, потому что чеченская бойня есть проекция нашего коллективного бессознательного. Только ее компенсаторным воздействием можно объяснить столь неотрывное и безропотное созерцание миллионами – целой страной!– ежедневного братоубийства.
И, споткнувшись о «братоубийство», он подумал, что даже и этот пассаж при желании можно связать с Тарадаем, и почувствовал вдруг, что устал, что он больше не может развязывать узелки, им когда-то завязанные так просто, на память,– разрубить одним махом, а для этого прямо сейчас позвонить и сказать: Кирка, милый, нам надо поговорить, ты мужик уже взрослый… сесть, взять пива, как двум мужикам… ты вчера почему-то рычал на меня, огрызался, я не знаю, какой уж там вышел у вас разговор с дядей Владом, какой и о чем… я тебе расскажу все, как было, а ты не спеша обмозгуй.– Игорь снял телефонную трубку, но, почувствовав, что единственных слов он еще не нашел, надавил на рычаг.
В тот же миг телефон зазвонил – под рукой, и от этого дребезжания в пальцах стало сразу тревожно. Он выдержал паузу, дотерпел до второго сигнала и… звонок оборвался. Опять. Только Нина, в чем не было ни малейших сомнений, могла уже с полными легкими воздуха вдруг отвернуться и ничего не сказать. Так же все началось и на катере: подошла она к ним вместе с Юркой, уже восьмилетним, насупленным, жирненьким, а потом оказалось, что очень смешливым и добродушным, поздоровалась, моментально, но цепко оглядела Натушу, спросила: «Могу ли я вашего спутника пригласить на одну сигаретку?» – а когда они вышли на заднюю палубу, закурила и долго курила молчком, отвернувшись к воде, похудевшая, моложавая, с той же стрижкой под мальчика, так когда-то его поразившей, обернулась и вдруг закричала (ветер бился в ушах, в волосах, в ее длинном подоле): «У тебя, Игорек, как обычно, все в полном порядке?» Он кивнул и спросил тоже криком: «А что у тебя? Как Аленка, как Джим?» – и подумал, насколько же это удобно – за криком скрываться от фальши дежурных, ничем уже не наполненных фраз. Но, наверное, ей не хотелось орать и скрываться. И она закивала молчком и, опять отвернувшись к воде, от бычка закурила еще одну сигарету.
И тогда к ним на палубу выскочил Юрка: «Мама! Вон! Вон! Смотри! Там Аленка!» – и затряс ее руку. Они проплывали вдоль пологого склона Пречистенской набережной, где в высокой траве с регулярностью телеграфных столбов обнимались влюбленные парочки. Нина крикнула: «Ты обознался! Зайди внутрь! Ты же мне обещал! Ты опять нарываешься на воспаление среднего уха?– и, засунув его за стеклянную дверь, обернулась с почти незнакомым лицом: – Он тоскует по ней как безумный! А она к нам придет раз в месяц, отъестся, отмоется, украдет то, что я не успею запрятать, и опять в куражи! Гены – это страшная сила! Я одну твою фразу каждый день теперь вспоминаю!» – «Фразу?» – «Да! Ты мне как-то сказал, что я слишком хочу пострадать, поэтому и страдаю! Не помнишь?» – «А с Аленкой давно это?..» – «Уже два с половиной… Вот как только тринадцать исполнилось, всё – подменили…– Нина села с ним рядом на деревянную лавку и кричала теперь ему в ухо: – Что мы только не делали! Я ей бром подливала во все, от борща до компота! Однажды привязала даже к кровати! Бесполезно! Не рассказать! Это песня без слов! Джим седой, в сорок шесть, весь как лунь! Он ее обожал еще больше, чем Юрка… Началось все с солдатиков из стройбата… а теперь чердаки, мужики, четыре привода! В детской комнате говорят: клептомания лечится, как и шизофрения, то есть вовсе не лечится, у вас собственный парень, зачем ему этот пример, оформляйте отказ от родительских прав!.. Вот такие дела! Джима жалко до слез! К нам в детдоме, мы только вошли, два пацанчика кинулись, некрасивые, а один еще ножку тянул… Нет! Пацанчиков побоку, мне красавицу дочку позарез было нужно!– и, увидев компанию пожилых иностранцев, выползавших на палубу с фото и видео, ни с того ни с сего расплылась в лучезарной улыбке: – Welcome, птицы небесные! Не жнете, не сеете! Welcome!» А они, закивав, обнажили в ответ белоснежные, одинаковые протезы и защелкали и зажужжали японской аппаратурой, поскольку по левому борту показался весь в кранах, из светло-красного кирпича, но по контуру даже ими уже узнаваемый храм Христа.