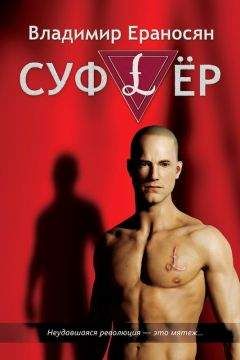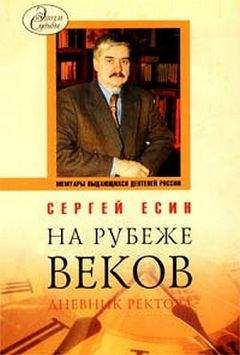Вскоре после свадьбы Светкины родители уехали в загранку, и Федор начал выдавать журфиксы в четырехкомнатной квартире. В первый же раз все, конечно, ахнули от люстр, натертых паркетных полов — тогда еще не началась эпоха лака, — разнообразия невиданных напитков, которые, правда, выдавались нещедро; тут впервые мы и увидели Евдокию Павловну.
В тот вечер Светка была без ума от своего мужа, своего гостеприимства, своих гостей, она показывала товар лицом, демонстрировала радушие и посуду. То принесет бокалы для пива, то высокие, с тяжелым дном, коктейльные стаканы. Европа! А когда я чуть присовел, пустился в одинокое странствие по квартире.
Я открыл дверь в кухню и сразу же встретился глазами с какой-то бабушкой, которая стоя перетирала возле мойки посуду.
— Что, милок, может, молочка выпьешь? — спросила бабушка.
— Выпью.
— Да ты садись, садись, а дверь закрой. Светланин папа, Святослав Нилыч, когда выпьет лишнее, всегда молока требует.
— А вы бабушка Светланы?
— Я… внучатая я бабушка.
— А что значит — внучатая бабушка?
— А то, что я ее маме, Евгении Григорьевне, довожусь родной теткой.
В этой огромной квартире мы потом бывали с Натальей тысячу раз. Мы перецеловались здесь с ней во всех углах и комнатах. В это время Светка занималась Федором, Федор — Светкой, мы — друг другом, а внучатая бабушка Евдокия Павловна никому не мешала. Мы только заметили, что в самые решающие минуты наших с Наташей отношений неизбежно входила Евдокия Павловна и говорила:
— А я оладушки с медом испекла, может, поедите маленько?
Утром замела метель. Я сидел на кухне за столом и видел, как ветер швырял в окно сухой снег. От окна дуло. Наталья со злыми заплаканными глазами жарила яичницу. Кусок в горло не шел. Я выпил кофе, закурил. Наталья ничего не сказала, только метнула на меня взор, — она не любила, когда я курил в квартире.
— Тебе на цветы дать?
— Нет, не надо, я с премии зажал полсотни.
— Я знала. А может быть, надо Федору сотню-другую подкинуть?
— Нашла кому подкидывать. Да Федя нас с потрохами купит.
Метель за окном разыгрывалась не на шутку. Значит, шофер опоздает минут на десять. Машины, выходя с базы, буксуют, шоферы кроют друг друга, не пропускают на Беговой затор.
— Оденься потеплее, — сказала Наталья, — по радио передавали, сегодня будет до двадцати. И возьми валидол.
Я представил, как мы по морозу повезем Евдокию Павловну в крематорий, в Никольское. Через всю Москву, которую она так, наверное, толком и не видела.
Меня всегда во время похорон удивляло, как живые бросают мертвых. Все кутаются в теплые шубы и шапки, поправляют цветочек и как-то все забывают, что родной человек у них на глазах отбывает в гнездо ледяного безмолвия.
И тут подумал: Евдокия Павловна лежит сейчас на холодном прозекторском столе в одном из городских моргов. Холодная, чужая, рядом с чужими. А может быть, действительно не сразу душа покидает тело? Что тогда? Что тогда думают о нас вчерашние живые?
На работе, не успел я отдать первые распоряжения и отправить секретаршу за гвоздиками на Центральный рынок, как раздался звонок:
— Здравствуй, Костя!
— Ты чего, Федор? — Со вчерашнего вечера я жил с ощущением, что плохая полоса жизни только началась.
— Вчера ночью прилетела теща.
— А Святослав Нилыч?
— По работе не смогли отпустить. Я вот что, Костя, звоню. Теща с утра развила бурную деятельность. Будет еще две машины, а значит, еще два шофера, так что тебе, может, стоит поберечь себя. Тем более я знаю: конец квартала, у тебя план.
— Феденька, — говорю я ему, — у Евдокии Павловны есть еще взрослый правнучек — восемнадцатилетний долбак. Твой сыночек — Валерочка. Рост — сто восемьдесят три.
— Рост — сто восемьдесят пять, Костя. Здесь ты ошибся. Дети растут. Но Валерочки не будет. — В голосе Феди я услышал растерянность.
— Не в тебя растет детинушка, Федя.
— Не в меня, — вздохнул Федя. В тоне его на мгновение послышалась плохо скрываемая ярость. — У него на сегодня, видите ли, каратэ.
— И ты не можешь врезать ему без каратэ? Раньше ты умел.
— Другая генерация, — невесело пошутил Федор. — Так давай к теме, Костик. Если не можешь, не приезжай. Я обойдусь.
— Я что, нехристь? Обязательно приеду, Федя!
К тому времени, когда секретарша Нелличка вернулась с цветами, я уже расправился со всеми неотложными делами: подписал поручение в банк, новую спецификацию на изделие, накачал главного инженера и с уверенностью, что четыре часа завод будет бесперебойно выдавать продукцию, отгружать ее, а Нелличка аккуратно врать в главк и смежникам, что директор Константин Георгиевич Макаров сейчас бродит по цехам вместе со строителями, договариваясь о реконструкции некоторых устаревших заводских подразделений, отбыл на похороны Евдокии Павловны Голубевой, 76 лет, русской, домохозяйки, уроженки деревни Доброе Боровского района Калужской области, находившейся с вышеозначенным директором в добрых отношениях на протяжении последних двадцати двух лет…
Хорошо, что я повидал ее недели за две до ее смерти.
Мы с Федором собрались в баню. Субботу — на баню. Все было заранее оговорено. Машину берем служебную, мою. Федор — ящик пива и закуску. Едем под Москву, в зону отдыха нашего завода: там профилакторий, дом отдыха и банька. Стыкуемся у Федора дома, не рано, часов в одиннадцать, чтобы отоспаться, спокойно позавтракать.
Когда я приехал, Федор лениво ковырял вилкой в тарелке, а Светлана учила его жить. Они снова собирались куда-то на три года — Федор продавать и покупать оборудование для текстильной промышленности, а Светлана, давно сменившая прежнюю специальность на специальность домашней хозяйки, соответственно помогать продавать и покупать вышеозначенное оборудование. И спор шел вокруг дальнейшей судьбы Евдокии Павловны.
Приговор врачей был известен. В клинике Евдокия Павловна уже полежала, теперь ее выписали домой, доживать.
— Но ведь в этом возрасте, — Светлана пыталась взять в союзники и меня, — все жизненные процессы протекают безумно замедленно. Это все может тянуться до бесконечности. А ведь мы, Костя, через три месяца уезжаем за рубеж.
— Но ведь не завтра уезжаем!
— И значит, три месяца мы должны жить в аду, мучиться сами, мучить бедную старуху, а потом, возможно, все бросить на мальчика?
— Света, посуетись, Света, — бурчал Федя. — Ты нам поесть собрала?
— Сейчас соберу. Но давай порассуждаем; Костя, он свой человек. Зачем все эти сложности, если государство в социальном плане готово нам помочь! Разве ты не смог бы устроить Евдокию Павловну в какой-нибудь дом для престарелых, ну, наконец, в какую-нибудь хорошую больницу? И мама так же считает. Она вчера прислала письмо.
— Ах, и мамочка, любезная теща, так считает? — Федя явно ёрничал. — Сегодня, как и сорок пять лет назад, наша мамочка большая альтруистка. А ты помнишь?..
— Федор! — прикрикнула Светлана. — Не болтай лишнего.
— Мы, конечно, отблагодарили бы людей, — продолжала Светлана в прежнем тоне уговора, — заплатили сиделке и со спокойной совестью бы уехали, а Валерик смог бы нормально продолжать свои занятия. Мама Евдокии Павловне очень благодарна, она живет у нас как член семьи. Мы лелеем ее старость.
— Мама, — зашипел Федор, — вспомнила о ней, когда она впервые поехала в загранку и тебя не с кем было оставить.
— Федор!
— Я сорок лет Федор. Но когда я женился на тебе, Евдокия Павловна, по нашему семейному штатному расписанию, ходила в других рангах…
По выражению Фединого лица я подумал, что смываться из кухни самое время — Светка переступила черту, или я Федю не знаю.
— Вот что, ребята, — сказал я как можно более дружелюбно, — вы выясняйте отношения, а я пойду посмотрю по телеку «Движение без опасности», — для меня это актуально.
Маневр был предпринят вовремя. Не успел я закрыть дверь, как Федор разразился бранью.
— Ты не понимаешь разве, прорва, прор-ва, — орал Федя, — что старуха воспитала и вынянчила тебя, выходила нашего балбеса! Ты понимаешь, что она хочет умереть дома? До-ма! В своей кровати. И видеть рядом с собою тебя, меня, нашего балбеса и знать, знать или хотя бы искренне обманываться, что мы хорошие люди…
Загремели тарелки, всхлипнула Светлана, пора было включать телевизор на полную мощность.
Квартира за последнее время у Феди сильно не менялась, но то новая стенка появится, то новая люстра, а то дефицитная книжка, преднамеренно брошенная на журнальный столик. На этот раз новым был телевизор — огромная японская машина, вся в никеле, пластмассе и блестящих кнопках. Я врубил громкость почти до предела, заглушая семейную стычку, и пошел в комнату Евдокии Павловны.
К моему удивлению, в комнате бабушки был полный порядок: не стояли тазы, не валялись по всем углам мокрые полотенца. Тумбочка возле кровати была застелена чистой салфеткой, а на ней — прикрытый блюдечком стакан морса. Евдокия Павловна лежала чистая, ухоженная, с причесанными волосами. Про себя я подумал: а Светке-то, этой прагматичке, оказывается, и человеческое, родственное не чуждо. Вот тебе и на!