Увидел плут, как хоронили в том городе покойников: впереди выкатывались ложечники с гармонистами, вприсядку пускаясь перед процессией, рассыпая удалую дробь по коленам до самого кладбища. Следом гуляли, распевая, провожатые, приказано было лепить румяна на самих усопших, с тем, чтобы даже их вид был праздничным. Сама же дорога на кладбище сделалась в городе самой развеселой — дня не бывало, чтоб не свистели по ней соловьями, не заливались жаворонками. Так все гремело и веселилось; кузнецы распевали, поколачивая долотами, бабы приплясывали за базарными прилавками.
Приплясывал и пройдоха:
— На что была на Руси удивительна прежняя жизнь, но такого и при царе не удумали — провожать покойничков под балалайки. Ай да Веселия — неужто до нее добрался?
Загулял и он нешуточно. Когда говорили ему, чтоб попридержал свой язык, отвечал со смехом:
— Где это видано, чтоб крутили чекисты руки у пьяного гуляки? Где видано, чтоб пьянчужке вырвали язык за его брехню? Бойтесь вы, сторонящиеся гулящих людей! Страшитесь вы, шарахающиеся от кабаков — они же место безопасное на Руси. Что возьмешь с бесштанного теребня — веселье на душе его, и забывает о грешной землице, все по небу перебирает ногами. Кто же с таким гулякой схватится? Всплакнет он лишь оттого, что опустел штофик, разбилась бутыль — об этом лишь и печалится! Любят у нас беспорточных гуляк — лишь их языки и развязаны. Не опора ли новой власти кабацкие гуляки? Проживет разве без них Веселия?
И напевал при этом, подмигивая:
— Калина — малина.
Нет штанов у Сталина.
Есть штаны у Рыкова,
И те Петра Великого.
От него шарахались как от чумы. Лишь кабацкие завсегдатаи, беззубые бабы и мужички со сливовыми носами, подпевали и пускались в пляс. Был в кабаках дым коромыслом, сюда соглядатаи не заглядывали, здесь и так с утра до ночи шло веселье. Твердил плут, будоража спившихся людишек, прислушиваясь к песням по дороге на кладбище:
— Люба, люба мне Веселия!
7
Некий агитатор на площади собрал под знаменами толпу. Рассказывал он открывшим рты про заводы, которые такими строятся, что в начале недели можно войти и лишь к воскресенью достичь конца их! И захлебывался про железных чудищ, которые по земле ползут, подобно гусеницам, и каждое заменяет сто коней, тащит за собой преогромный плуг, за раз вспахивая целое поле! Поведал также про чудо-корабль — снарядом выпускает его пушка величиной с дом и несется тот снаряд за сто верст. Всякий раз агитатор прибавлял: «Вот какое чудо дивное нами делается! Чем мы нынче не удивительная страна?»
Плут, затесавшись в толпу, подначивал:
— У нас на Руси и собаки горчицу лижут!
Один не выдержал:
— Врешь, сукин сын, пьяная твоя рожа, надсмехаешься! Про пушки с заводами я слыхивал, а вот чтоб собаки горчицу жрали, не было такого никогда. Брешешь, язык распускаешь!
Плут поймал тут же дворняжку, вытащил горчицы, да и намазал ей под хвостом. Та закрутилась и принялась слизывать, плут же приговаривал:
— Жаль, нет под рукой перчика — поглядели бы, как собаки и перец нынче пробуют!
8
В другой раз принялся бегать, хвататься за голову:
— Ой, комок перьев, а под ним-то ужас!
Его спрашивали:
— Чего орешь?
Алешка указывал:
— Напугал меня воробей на крыше чекистского дома!
Тогда одни от плута шарахались, другие, посмелее, пророчили:
— По ребрам твоим будет погуливать плетка. Смотри, дурак, навсегда упекут под эту крышу за такие слова.
На что тот смеялся:
— Где это видано, чтобы дурака упекали под крыши? Не дураки здесь одни повсюду разгуливают, не сиживают умные за решеткой Закрывайте-ка свои уши, коли вы умники — подавайтесь от меня в стороны!
9
И взялся ночью безобразничать под комиссарскими окнами с ватагой собутыльников; орал попевки и терзал гармонику. Сам комиссар соскочил с кровати и вылез на балкон.
Пьяницы распевали песни столь громко, что невозможно было их слушать. Все дома в округе были разбужены. Так гудели и скакали ватажники, что не выдержал комиссар — приказал разошедшихся угомонить. Бросилась милиция на площадь — кого плетью протянули, кого успокоили зуботычиной. Все затихло, сам комиссар взялся разбираться и грозно спрашивал:
— Откуда такое к полуночи веселье?
Алешка выскочил вперед:
— Не ты наказал хоронить с песнями да частушечными вывертами? Не ты указывал — радостны должны быть в новой стране и похороны?
Воскликнул комиссар:
— Кого вы, сукины дети, хороните?
Плут ответил, не смущаясь:
— Ежели простых людишек принялись так провожать с музыкой, то мы, голытьба, подумали — как же тогда придется спроваживать знатных товарищей! Уж если на черни подзаборной вовсю наигрыши, и нет покоя балалайкам, то каков гром должен быть на настоящих проводах! Весь город должен тогда веселиться, отплясывать! Вот и решили заранее опробовать, чтоб не ударить лицом в грязь, когда помрет кто-нибудь из начальников! То-то его проводим, напляшемся!
— Ах, ты, — рассвирепел комиссар. И поднял было кулак — но вспомнил свой наказ и прикусил язык.
На следующий день поволоклись на кладбище горожане хоронить, как и прежде, с горестными воплями. Вылез из кабака беспутный гуляка и, узнав — отменен прежний указ, — искренне тому огорчился: «Надобно, чтоб в Веселии и умирали-то, приплясывая».
Сказали ему:
— Шел бы ты работать. Повсюду теперь новые порядки. С буржуями, кулаками управились, будут хватать бездельников! Добром не захочешь трудиться — поволокут силою.
На то возражал Алешка:
— Разве я, граждане, языком не работаю? Пляской я утруждаю свои ноги, а бедные мои пальцы вовсе стерлись на кнопках гармоники! Разве то не труд — каждый день терзать свою глотку? Семь потов стекает с меня, шатаюсь к вечеру от такой усталости не хуже последнего каменщика!
Ему сказали:
— Баламут! Шалаполка! Твой длинный язык завяжут узлом. Подвесят тебя, непутевого!
Алешка протестовал:
— Где это видано, чтоб непутевого подвешивали? У нас тех отлавливают, кто по путям-дорогам разгуливает!
10
Однако недолго он гоголем хаживал!
Отловили чекисты праздного гуляку:
— Отчего не трудишься на наших стройках? На какие такие доходы набиваешь себя хлебом, наливаешься вином?
И поволокли плута на суровый допрос. Как ни вырывался, ни отнекивался, железной была хватка стражников. Дали ему для начала пинков за бродяжничество, подбавили кулаками за безделие:
— Поглядите-ка на ражего мужика! Это он нам-то канючит, что увечный да раненый, а у самого отъевшаяся рожа.
Рыдал Алешка:
— Помилосердствуйте, товарищи! Не ведаю — отчего я попал в подвалы, ознакомился с кутузкой, происхождения я вовсе незнатного, славлю повсюду в кабаках новую жизнь! Рад я вашему царству! Отпустите меня на четыре стороны.
— Ах ты, сукин сын! — отвечали. — Затеяли мы фабрики-заводы, а ты прохлаждаешься. На тебе пахать да мешки возить надобно.
И направили плута зачинать заводы и фабрики, пригрозили — если попытается сбежать — осудят его со всей строгостью как врага и кулацкого пособника. Наградили нового работника тачкой, одарили его лопатой:
— Ты не рад ли очищающему труду?
С плачем поволокся Алешка на котлован и, рыдая, приговаривал:
— Страшнее адовой муки мне тачка с киркой. Пострашнее самого голода возить на спине кирпичи, ворочать глину да камни. Отпустите меня, товарищи!
Ему пригрозили:
— Из тебя самого сделаем глину!
И взялись погонять плута, присматривать за ним. Горестно он возопил:
— Поистине, нет Веселии на земле!
И тому убивался.
11
А в лагерь, где сидел монах, прибыл новый начальник. Принялся похаживать по подвалам, заглядывать в ямы и расспрашивал, кто сидит еще там и жив. Ему сказали:
— Монах один дожидается смерти. Сидит до той поры, пока не выдумают ему такую лютую казнь, какой еще никогда не было.
Заглянул начальник в ту яму и сказал:
— Сидение там хуже смерти! Отпустите его — отсидел он свое. Не верю, чтоб после этого не повредился в рассудке.
Исполнили приказ услужливые слуги, расковали монаха, из ямы подняли, пришептывая:
— Повезло тебе — новая метла метет по-новому. Убирайся, если сможешь ходить, отсюда подобру-поздорову.
Монах же не мог и шагу сделать. И не видели его глаза, отвыкшие от дневного света. Смеялись над ним:
— Вот брыкается, точно новорожденный телок. В пору ему ставить подпорки, дать поводыря на дорогу.
Монах сказал:
— Сам готов ползти с проклятого места.
Ему сказали:
— Тут сто верст до ближайшей дороги — куда тебе, слепому. Не сгинул чудом в яме, стоит лишь выйти за лагерные ворота — сгинешь. Уже осень, и повсюду волчьи стаи, и нет человеческого жилья.
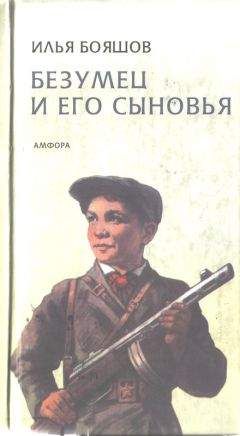
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)



