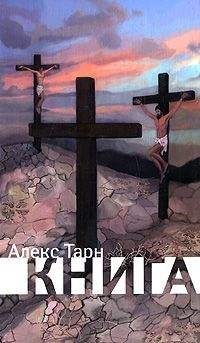Ознакомительная версия.
Он обвел взглядом комнату, по дороге опять совершенно некстати натолкнувшись на вырез халата. Под ним наверняка ничего нет, под халатом. Или есть. А тебе-то какая разница, кретин недостреленный? Ты сейчас встанешь и уйдешь, понял? Ханна стянула лацканы вместе.
Они были вдвоем в комнате. Вообще говоря, это ровно ничего не значило: ведь эту маленькую двадцатиметровую гостиную окружали другие комнаты, квартиры, дома, город, и повсюду сидели, ходили, разговаривали, смеялись и ссорились десятки, тысячи, миллионы других людей, похожих на них, как похожи друг на друга муравьи в муравейнике. Можно ли остаться вдвоем в муравейнике? Но они были вдвоем, потому что чувствовали себя вдвоем, и беззвучный разговор, который происходил между ними помимо их воли, мысли и намерения, не имел никакого отношения ни к муравейнику, ни к комнате, ни даже к словам, которые произносились ими обоими, и вроде бы несли в себе какой-то смысл, но на самом деле не означали ничего, кроме обертки, кроме оплетки, картофельной шкурки, ореховой шелухи.
— Ерунда, — сказала она. — Люди улыбаются всегда, даже в таких ситуациях. Хоть немного, хоть тенью. Человеку свойственно улыбаться.
— Ошибаться, — поправил он. — Человеку свойственно ошибаться.
— Улыбаться. А вам улыбаться не свойственно, и это плохо.
В самую точку, — подумал Сева. — Знала бы ты…
— Знаете, — сказал он вслух. — Вы напомнили мне одну историю. На третий год нашей жизни здесь мы пошли покупать нашу первую машину. Я уже работал, льготы, хорошая рассрочка и вообще… короче, если напрячься… и мы решили напрячься. Тогда все покупали «мицубиши». Мы сделали заказ и все оставшееся время обсуждали, куда поедем в первую очередь. Мальчишки даже перестали драться между собой: тогда у них был такой дурацкий драцкий период. Наконец позвонил агент, что можно приходить забирать, и мы помчались, все вчетвером. Дело было вечером в четверг, так что впереди нас ждал полноценный конец недели и та самая «первая очередь» — поездка на Кинерет в нашем новом замечательном автомобиле.
Ну вот. Приезжаем мы в агентство, мальчишки, конечно, сразу лезут в машину, а она пахнет, как и должна пахнуть твоя первая новая машина — новой пластмассой, свежей обивкой и счастьем. Я иду к агенту отдавать чек, и тут он мне говорит:
— Ты чего это мне даешь?
— Как это, — говорю. — Чек. Вот. Столько-то и столько-то. Как договаривались.
А сам думаю: неужели подорожала? Или мошенничество какое, обман, еще что-нибудь…
— Да я не про сумму, — говорит. — Я про чек. Что ты мне свой обычный чек суешь, когда нужен банковский? Я ведь тебя предупреждал.
Ни фига он меня, конечно, не предпреждал. Всегдашнее наше доброе разгильдяйство. Почему доброе? Потому что здешний разгильдяй чиновник всегда расплатится с тобой за свое разгильдяйство своим же добрым к тебе отношением.
— Как же так? — говорю. — Что же теперь? Мы уже на Кинерет…
— Ничего, — говорит. — Мы, хоть и закрываемся, но я ради такого случая подожду тебя, так уж и быть. Вон, мальчишки как рады. Беги быстрее в банк, прямо здесь за углом и проси чек. Да быстрее, они в шесть запирают.
Я смотрю на часы: без двух минут шесть. Выскакиваю, мчусь, как угорелый, прибегаю: закрыто! Уже заперли! А и в самом деле две минуты седьмого. Что ж, думаю, так и уйти? А конец недели? А Кинерет? А мальчишки? Ну уж нет. Начал биться я об эту стеклянную дверь, прямо как рыба об лед. Ну, тут та же здешняя доброта сработала: видят, человек не в себе, ну и открыли. Так, мол, и так, говорю. Выручайте, иначе кранты моему счастью.
— Ладно, — говорят. — Садись. Выпишем тебе твой чек.
Сажусь я, значит, жду. Чиновник проверяет мой счет, все там в порядке, выписывает чек, но мне его, представьте, не дает, а, наоборот, говорит следующий текст:
— Теперь, — говорит. — Осталось удостовериться, что ты — это ты.
— Чего? — говорю.
— А того, — говорит. — Чек я тебе могу выписать, потому что это твой банк, но поскольку данное конкретное отделение этого банка — не твое, я обязан убедиться, что ты — тот, за кого себя выдаешь. Во избежание мошенничества и во имя защиты денег наших клиентов. На страже и вообще.
— Ну ты даешь… — говорю. — Вот же мое удостоверение…
— Ха! — говорит. — А если ты его украл у господина Сивы Баранова?
— Севы… — говорю.
— Не важно, — говорит. — Сивы… Сэвы… важно, что украл. И фотография не похожа.
Ну, думаю, все. Конец мечтам. И тут он снимает трубку и звонит в мое отделение. И ставит телефон на режим с внешним динамиком, чтобы и я тоже слышал. И там на мое счастье подходит знакомый тайманец по имени Цион.
— Слышь, Цион, — говорит местный клерк. — Тут у меня сидит ваш клиент на предмет банковского чека. Покупает машину. Фамилия его Баранов, а зовут его Сэва…
— Сива, — поправляет Цион.
— Не важно, — говорит клерк. — Сэва… Сива… важно, он ли это?
— А какой он из себя? — спрашивает Цион. — Опиши в двух словах.
И вот, Ханна, смотрит на меня этот человек, меряет взглядом с ног до головы, чтобы отыскать самую характерную мою примету и наконец говорит:
— Ну, такой… все время улыбается, вот какой.
— Он, — говорит Цион. — Шаббат шалом.
И вешает трубку. Понимаете? Вы понимаете, Ханна?..
Сева замолчал, покачивая головой, как будто вопрос о понимании был обращен не к Ханне, а к нему самому. Он действительно разучился улыбаться в последние годы — он, главной приметой которого считалась когда-то улыбка! Почему? Как это получилось? Вроде ведь, никаких несчастий, болезней, бед… Бог миловал, черт обходил, ничего такого не было… Не было? А зачем считать то, чего не было? Посчитай-ка лучше — что было… Что? — Бессмысленная скачка неведомо куда, неведомо зачем — вот что. Где-то там, на скаку, она и выпала, твоя улыбка, укатилась в пыльные придорожные кусты, поди, сыщи теперь.
Ханна вздохнула, поднялась с кресла, поморщилась от холодного пола под босыми ступнями.
— Вставайте Сева. Я пока приму душ и приготовлю завтрак.
Он проводил ее глазами. Их прежний безмолвный диалог, отодвинутый в сторону его рассказом, возвращался, как возвращается плавное течение ненадолго взбаламученной речки, как возвращается ветер, утро, день. Погоди, погоди, братец… Кстати, о дне — этот день может уже не вернуться, помнишь? Это день последних возможностей, последних попыток. Сева резко сел на диване, посмотрел на часы: около десяти. Все, опоздал, торопиться некуда… Ерунда, — возразил он сам себе, своей тягучей пассивности, своим налившимся неожиданной тяжестью ногам. — Ерунда. Не будь дураком. Езжай прямо сейчас на работу. Там наверняка слышали по радио о ночном теракте. Объяснишься, поймут. Еще не поздно все поправить, вернуть прежнюю жизнь — сначала хотя бы службу, а потом и Светку, семью… а улыбка — черт с ней, с улыбкой. Снявши голову…
Сева поспешно влез в скомканные брюки, огляделся. Вон они, ключи, на столе. Проходя мимо ванной, он услышал звук льющейся воды и представил себе ее, голую, под душем — представил, уже не делая никаких ограничений разнузданному воображению, потому что теперь уже не опасно, теперь уже можно, потому что сюда он уже не вернется никогда, проехали, точка.
Захлопнув за собой дверь, Сева тут же пожалел об этом: на лестнице было темно, хоть глаз выколи, и потому следовало бы использовать свет из квартиры для того, чтобы разглядеть на стене выключатель. Но кто же мог заранее знать, что местные идиоты не догадались установить подсвеченные кнопки, как в любых других приличных местах? А может и догадались, просто поломка. Поломка и все тут… Он нащупал рукою стену и сделал несколько шагов в направлении, где, по его понятиям, должен был находиться лестничный марш. Черт… хоть назад звонись… там светло, там завтрак… Говорила ведь тебе Ханна: «приготовлю завтрак». Красивая Ханна с круглыми коленями и вороньим гнездом волос над ярко-красным ртом, припухшим, словно от поцелуев. Говорила… она еще много чего говорила. Например: «Уйдете — погибнете сразу». Вот ведь…
Сверху из темноты послышался сдержанный кашель, и все снова смолкло. Сева замер. Ему вдруг сделалось страшно. «Уйдете — погибнете сразу». Что за чушь, — пристыдил он себя. — Как маленький мальчик, честное слово. Темноты испугался… Но сердце не желало успокаиваться, колотилось у самого горла, ладони вспотели. На негнущихся ногах он сделал еще два шага, держась за стенку, завернул за угол и наконец разглядел слабый свет из лестничного пролета. Который здесь этаж? Третий? Четвертый? Он не помнил… да и какое это имело значение? Сева протянул руку, чтобы нащупать перила, и в этот момент в звенящей тишине подъезда явственно прошелестел женский голос: «Куда ты?.. Куда?..»
Затем наверху щелкнул замок, резкий свет кислотой брызнул в глаза, и вся лестница загудела, заохала от грохота надвигающихся шагов. Севины нервы не выдержали; сломя голову, он бросился вниз, спрыгивая в конце маршев, подскальзываясь на плитках и едва успевая ухватиться за перила, чтобы не упасть. Вот и выход. Чудом не сломав себе шею, он выскочил на улицу и остановился, переводя дыхание.
Ознакомительная версия.