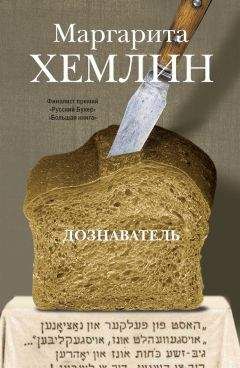Евка не смотрела. Стягивала косынку на груди. Стягивала-стягивала, аж пока один конец дал трещину. То есть порвался. Старый платочек. Евка от такого конфуза очнулась. Содрала остатки и помахала в воздухе.
Я увидел ее плечи и отметил, что она поправилась.
— Ты, Евочка, главное, за фигурой следи. Кушай меньше. Ты от нервов кушаешь много. Платье свадебное готово, наверно. С мерки не сошло? Ничего, Полина расставит клинышками с боков.
Евка ощупала свои бока — машинально. Женщина.
Я резко продолжил:
— Где и кто показал тебе содержимое кисета?
— Не показывал никто. Довид словами сказал: тут, говорит, на важнейшее дело средства. И твоя доля, Ева, тоже тут. От твоего имени Лилия распорядилась — пять золотых монет царской чеканки. Так и сказал — «чеканки». Я б такого не придумала. Поверьте, Михаил Иванович. Я как с цепи сорвалась. Я с ними уже попрощалась. Не отдала мне их Лилька до своей смерти, я их с ней отпустила на тот свет. Даже спокойно. Простила долг умершей родной сестре. А как же. А тут опять слышу как должное: от моего имени. То есть она забрала их у Лаевской и от моего имени в кисет засунула. А там знаете что? Там коронки еврейские. Из мертвых. Которых стреляли полицаи. И кольца тоже. И они, гады, туда же мои монеты. Лилька назло! Именно назло! Она и не такое могла придумать. Точно Лилька! Я сразу поверила и потребовала свою долю назад. Довид отказал. Я Зуселя приволокла на себе, можно сказать, одолжение Лаевской сделала. А оказывается, мои денежки там, вместе с этой гидотой, с мертвецами заодно, чтоб я руки свои туда совала и потом век не отмыла.
Евка задрожала спиной и плечами. Не рыдала. Тряслась, как цыганка. Я в Венгрии видел. Из лагеря несколько старух-цыганок плелись, мы им хлеба дали. Одна начала танцевать для нас. И свалилась. А плечи дрожали ходуном.
— Не надо, Ева. Отмыла б ты руки свои красивые. Отмыла б. И не от такого отмывают. И жениха ты получила. Хорошего. Ты думаешь, сама его заарканила, а может, его тебе Лаевская подсунула и по скромности не объяснила, что он от нее. А?
Евка тряслась и икала.
Уже когда уходил, с порога прокричал:
— Зусель пропал. Не объявлялся тут?
Евка не ответила.
За ближним углом простоял минут пять. Евка выскочила из калитки и припустилась бегом куда-то. Под мышкой сверток. Газета в некоторых местах прорвалась и сверкала белая материя. Или шелк, или что. И не куда-то она бежала. Я не сомневался — к Лаевской.
Спокойным большим шагом я шел по переулку по направлению к горсаду.
Особых дел в городе не предстояло. К Лаевской я не собирался. Хотелось спокойно подумать.
На любимой скамейке я взял себе для размышлений Еву Воробейчик.
Что Суньку нагуляла и в чужие руки отдала — рассказала сразу.
Что сестра у нее преступно червонцы фактически украла — рассказала, несмотря что про покойных не надо говорить плохого.
Что по своей дурости доверилась Лаевской в смысле жениха — выложила.
Что в кисете еврейские коронки из могил — растрепала. Это ей язык повернулся.
Ни стыда ни совести. Только что рыдала навзрыд до икоты. И тут — к Лаевской побежала свадебное платье мерить. Клинья расставлять.
Со всего нашего с ней разговора в ее куриных мозгах и осталось — толстые ее бока.
Я подумал также о том, что Малка, как только Евка с ней перебралась в дом Лильки, взялась за старое — мацу печь на просторе.
Когда я в первый раз зашел — застал их на горячем. Евка перепугалась и срочно убралась обратно в Остер. И готовую мацу с собой не забрала. Поломала крупно и раскидала на заднем дворе — для моих глаз. И я увидел. А что имел место обыкновенный испуг — не догадался.
Куда курей дели? Живых не унесли б, шуму много. Чтоб Евка сама им головы рубила — навряд. Малка — тем более. Специальный человек у евреев есть. Чтоб кровь спустил и так далее по их закону. Бросить такое добро, чтоб соседи растащили, — не в Евкином вкусе. Там штук восемь кудахтало. Не меньше. Может, Зусель и резал. Призвала его Малка — он тогда в Чернигове ошивался. Он зарезал, Малка в мешок засунула, евреям продала.
Для кого-то ж она мацу пекла. Вот им кошерных курей и продала. Вот откуда у нее гроши. За эти гроши и разговор был. Эти гроши она Зуселю в пиджак и засунула. И эти гроши Гришка спер. И Суньке отдал. А Сунька — мне.
Малка определенно мне кричала:
— Отдай гроши, мне детей кормить!
Вот это и есть несказанное Малкино богатство. Из-за этого пропавшего богатства она и в могилу сошла. От переживаний. А зачем Зуселю эти гроши давала — неизвестно. И теперь неизвестно навек.
Иногда я слишком много внимания уделяю взгляду внутрь, а поверхность остается без должного оперативного досмотра. Ищу сложность там, где ее нету. Старшие, более опытные товарищи мне на это указывали, что сильно кручу. В том числе и Евсей. Я иногда учитывал. А иногда упускал возможность простоты.
И накрутилось, как на шпулю, на обыкновенное слово «гроши» в исполнении разных людей у каждого свое: у Малки свое, у Довида свое, у меня свое. Смешнее всех я. Придумал про хабар. А Штадлер что мне имел в виду, когда плевался из последней смелости? За какие именно гроши?
Только за кисет он мне мог плеваться в лицо. И Довид тоже — за ракушку хватался. Только за кисет. С еврейскими коронками и кольцами-цацками могильными. Евкины и Лилькины червонцы — довесок. Не они главные.
Видеть Штадлера не хотелось. Но есть такое: надо. И через надо я пошел.
Штадлер выглядел хорошо.
На мое приветствие ответил: головой кивнул четко.
Я молча положил кисет на стол. Развязал, вывалил содержимое.
— Ну, Вениамин Яковлевич, за это ты мне в лицо плевался?
Штадлер резко спрятал руки за спину. А в глаза мне не смотрел. Смотрел на стол. Не определенно в одну точку, а вроде скользил взглядом и всей головой вдоль и поперек.
Я схватил его за руку и потянул к золоту. Усилие я прилагал легкое, и рука не поддавалась. Штадлер не хотел. Я нажал. Когда его ладонь положилась на кучку, я ощутил, как он весь передернулся.
— Что, страшно? Почему страшно? Ты и страшней видел. И язык свой проглотить-откусить не побоялся. И били тебя смертным боем. И кости тебе ломали. А ты побрякушек испугался. — И руку его прижимал и прижимал к золоту, и пальцы стискивал ему до хруста.
Он замычал с такой мольбой, что я отпустил. Я не зверь.
— Откуда это? Мучить тебя не буду. Кто хозяин? Имя, фамилия, где найти. Я уйду и никогда больше к тебе не появлюсь. Обещаю. Все знают, я как сказал — так и делаю.
Я подложил тетрадку прямо под руку Штадлеру. И карандаш вложил ему в пальцы.
Он написал: «Воробейчик Лиля».
Листок с написанным я вырвал. Сложил вчетверо. Засунул в нагрудный карман кителя. Пуговицу застегнул. На одной ниточке пуговица. Но ничего, подержит еще.
Собрал кисет, тщательно и аккуратно завязал.
— Прощай, Вениамин Яковлевич. Теперь никогда не приду к тебе. И при встрече узнавать не буду. И ты меня забудь. Спасибо. Про Довида Басина знаешь?
Штадлер кивнул.
— А что Зусель пропал, тоже знаешь?
Мотанул головой в отрицательном смысле.
— Что, не пропал? Живой хоть?
Штадлер подтвердил.
— Откуда сведения? От Лаевской? Не отвечай. А то ты совсем разговорился. А мы ж уже попрощались. Ты не обязан.
Штадлер махнул рукой. В свой адрес или в знак прощания.
Известия у Штадлера от Лаевской, конечно. От кого еще. А Лаевская от кого узнала? От Файды. Только он и мог. Остальным плевать и на Лаевскую, и на Довида. И на Зуселя, все равно — живой он, мертвый.
Две положенные недели за свой счет кончались в понедельник. В моем распоряжении оставалась пятница, суббота и воскресенье. Свадьба Евки тоже в воскресенье.
Значит, надо уложиться в два дня хоть бы с половиной. Так я для себя определил.
Дома Люба с Ганнусей производили генеральную уборку. Ёська бегал тут же с криками и смехом. Гришка с Вовкой на дворе выбивали дорожки.
Я попросил себе дела, но Люба ответила, что лучше всего — не мешать. Помощников и без меня хватает.
Я спросил, может, мне пойти с Ёськой и хлопцами погулять?
Люба согласилась. Объявила, что будет нас ожидать с обедом к трем.
Я добавил, что и Ганнуся б с нами пошла для полноты команды, если б Люба отпустила главную помощницу.
Люба и тут не высказалась против.
Мне нужна была радость. И я ее себе устроил. Три часа мы гуляли по Чернигову, и я с теплотой отметил, что Гришка и Вовка не чувствуют себя чужими. Стараются идти ближе ко мне. Когда Ёська устал, несли его по очереди, а Ганнусе сказали, когда она тоже хотела, что это дело мужское, а ее дело особенно помогать маме Любе. Мороженое — хоть и остатки — Вовка и Гришка предложили Ганнусе. Сначала Гришка, когда увидел, что Ганнуся доела, а за Гришкой и Вовка. Оно уже сильно капало ему на руки, а он ждал, когда Ганнуся долижет Гришкино, потом вручил свое.