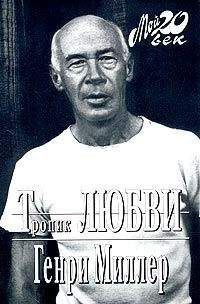Поездка из Пирея в Афины — превосходное предисловие к Греции. От нее не получаешь ни малейшего удовольствия. Только недоумеваешь, чего ради тебя понесло в эту страну. В окружающем безводии и безлюдии есть что-то жуткое. Ощущение такое, будто с тебя содрали кожу, выпотрошили, почти ничего от тебя не оставили. Водитель был как бессловесное животное, которое сверхъестественным образом научили управлять взбесившейся машиной: наш проводник то и дело командовал ему поворачивать то направо, то налево, словно ни тот, ни другой никогда не ездили по этой дороге. Я очень сочувствовал водителю, которого явно тоже надули. У меня было такое ощущение, что он, дай бог, до ста способен сосчитать; и еще у меня было ощущение, что если ему скажут, то он послушно свернет и в кювет. Когда мы добрались до места — с нашей стороны было безумием сразу отправляться туда, — то увидели толпу в несколько сотен человек, штурмом бравших ворота, которые вели на территорию Акрополя. К этому времени жара стала настолько чудовищной, что все мои мысли были о том, чтобы отыскать хотя бы кусочек тени. Найдя наконец сказочно прохладное местечко, я уселся, дожидаясь, когда аргентинец разменяет свои деньги. Проводник передал нас одному из профессиональных гидов и остался с таксистом возле ворот. Он собирался сопровождать нас к храму Юпитера, к Тесейону и невесть куда еще, когда мы будем сыты Акрополем. Мы, конечно, никуда больше не поехали. Велели ему везти нас в город, в какое-нибудь заведенье, где попрохладней, и заказать мороженое. Около половины десятого мы расположились на террасе кафе. У всех от жары был изнуренный вид, даже у греков. Мы набросились на мороженое и воду со льдом, потом заказали еще — мороженого и воды со льдом. Затем я попросил принести горячего чаю, внезапно вспомнив, что кто-то однажды говорил мне, что горячий чай хорошо охлаждает организм.
Такси с включенным мотором ждало у тротуара. Наш гид, казалось, был единственный, кто не обращал никакого внимания на жару. Полагаю, он рассчитывал, что, немного придя в себя, мы снова побежим по солнцепеку осматривать руины и древние памятники. Наконец мы сказали, что не нуждаемся в его услугах. На что он ответил, что не торопится, что никаких срочных дел у него нет и он счастлив составить нам компанию. Мы сказали, что на сегодня уже достаточно насмотрелись и хотели бы с ним расплатиться. Он подозвал официанта и оплатил счет из собственных денег. Мы настойчиво пытались узнать, сколько он дал. Он отнекивался с невероятно скромным видом. Потом спросил, как мы вознаградим его услуги. Мы отвечали, что нам трудно сказать, — пусть он сам назовет сумму. Он долго молчал, оценивающе оглядывал нас, почесывался, сдвигал шляпу на затылок, утирал пот со лба и наконец хладнокровно заявил, что две с половиной тысячи драхм его бы устроили. Я оглянулся на своего спутника и скомандовал открыть ответный огонь. Грек, разумеется, ждал такой нашей реакции. Должен признаться, что это — лукавство и хитрость — как раз и нравится мне в греках. Почти сразу же он отступил на заранее подготовленные позиции.
— Ну ладно, — сказал он, — если, по-вашему, моя цена слишком высока, тогда назовите свою.
Мы так и сделали. И назвали цену настолько же несуразно низкую, насколько высокую заломил наш гид. Тому, похоже, понравилось, как мы беззастенчиво торгуемся. Откровенно говоря, нам всем это нравилось. Торговля превращала его услуги во что-то, что имеет денежное выражение, что реально, как товар. Мы их взвешивали и разглядывали, мы подбрасывали их на ладони, как спелый помидор или кукурузный початок. И наконец сошлись — не на настоящей цене, потому что это значило бы оскорбить профессиональную гордость нашего гида, но сошлись — ради исключения и учитывая жару, учитывая, что мы не все успели осмотреть и т. д. и т. п. — на некоторой сумме и после этого расстались добрыми друзьями. Мы еще долго спорили по поводу одной мелочи: сколько наш гид-доброхот заплатил своему официальному коллеге у Акрополя. Он клялся, что выложил сто пятьдесят драхм. Я был свидетелем сделки и знал, что он сунул тому только пятерку. Он настаивал на своем, говоря, что меня, мол, обмануло зрение. Мы замяли этот вопрос, выдвинув предположение, что он обмишулился, ненароком дав гиду сверх положенного лишнюю сотню, — казуистика, столь чуждая природе грека, что реши он в тот момент обобрать нас до нитки, его бы поняли и оправдали в любом греческом суде.
Час спустя я распрощался со своим спутником, нашел комнату в маленьком отельчике за двойную против принятого цену, содрал с себя липкую одежду и до девяти вечера провалялся голый, в луже пота, на постели. В девять нашел ресторан, попытался было поесть, но не смог. В жизни я так не страдал от жары. Сидеть рядом с настольной лампой было пыткой. Выпив несколько стаканов холодной воды, я покинул террасу ресторана и направился в парк. Было уже, надо сказать, около одиннадцати. Со всех сторон в том же направлении тянулись люди, множество людей. Это напоминало Нью-Йорк душным августовским вечером. Опять я почувствовал себя посреди человеческого стада, чего никогда не испытывал в Париже, за исключением времени неудавшейся революции. Я неторопливо шел по направлению к храму Юпитера. На пыльных аллеях за расставленными как попало столиками сидели в темноте пары, негромко разговаривая за стаканом воды. Стакан воды... всюду мне виделся стакан воды. Просто наваждение. Я начал смотреть на воду по-новому, как на новый основной элемент жизни. Земля, воздух, огонь, вода. В данный момент вода имела первостепенную важность. Парочки, сидящие за столиками и негромко переговаривающиеся среди покоя и тишины, помогли мне увидеть греческий характер в ином свете. Пыль, жара, нищета, скудость природы и сдержанность людей — и повсюду вода в небольших стаканчиках, стоящих между влюбленными, от которых исходят мир и покой, — все это родило ощущение, что есть в этой земле что-то святое, что-то дающее силы и опору. Я бродил по парку, зачарованный этой первой ночью в Запионе. Он живет в моей памяти, как ни один из известных мне парков. Это квинтэссенция всех парков. Нечто подобное чувствуешь иногда, стоя перед полотном художника или мечтая о краях, в которых хотелось бы, но невозможно побывать. Мне еще предстояло открыть, что утром парк тоже прекрасен. Но ночью, опускающейся из ниоткуда, когда идешь по нему, ощущая жесткую землю под ногами и слыша тихое журчание чужеязыкой речи, он преисполнен волшебной силы — тем более волшебной для меня, что я думаю о людях, заполнявших его, беднейших и благороднейших людях в мире. Я рад, что явился в Афины с волной немыслимой жары, рад, что город предстал передо мной в своем самом неприглядном виде. Я почувствовал неприкрытую мощь его людей, их чистоту, величие, смиренность. Я видел их детей, и на душе у меня становилось тепло, потому что я приехал из Франции, где казалось, что мир — бездетен, что дети вообще перестали рождаться. Я видел людей в лохмотьях, и это тоже было очистительным зрелищем. Грек умеет жить, не стесняясь своего рванья: лохмотья нимало не унижают и не оскверняют его, не в пример беднякам в других странах, где мне доводилось бывать.
* * *
На другой день я решил отправиться пароходом на Корфу, где меня ждал мой друг Даррелл. Мы отплыли из Пирея в пять пополудни, солнце еще пылало, как жаровня. Я совершил ошибку, взяв билет во второй класс. Увидев поднимающийся по сходням домашний скот, свернутые постели и прочий немыслимый скарб, который греки волокли с собой на пароход, я немедля поменял билет на первый, стоивший лишь немногим дороже. В жизни я еще не путешествовал первым классом, ни на каком виде транспорта, исключая парижское метро, — мне это представлялось настоящим роскошеством. Стюард постоянно обходил пассажиров с подносом, уставленным стаканами с водой. Это первое греческое слово, которое я запомнил: nero (вода), — и это было красивое слово. Вечерело, вдалеке, не желая опускаться на воду, парили над морем смутно видневшиеся острова. Высыпали изумительно яркие звезды, дул мягкий, освежающий бриз. Во мне мгновенно родилось понимание, что такое Греция, чем она была и какой пребудет всегда, даже если ей придется пережить такую напасть, как толпы американских туристов. Когда стюард спросил, что я желаю на обед, когда до меня дошло, какое меню предлагается, я едва удержался, чтобы не расплакаться. То, как кормят на греческом пароходе, ошеломляет. Добрая греческая еда понравилась мне больше французской, хотя признаться в этом — значит прослыть еретиком. Кормили и поили как на убой, добавьте к этому свежий морской воздух и небо, полное звезд. Покидая Париж, я обещал себе, что целый год не притронусь к работе. Это были первые мои настоящие каникулы за двадцать лет, и я настроился провести их как полагается, то есть в полном безделье. Все, кажется, складывалось удачно. Времени больше не существовало, был только я, плывущий на тихом пароходике, готовый ко встречам с новыми людьми и новым приключениям. По сторонам, словно сам Гомер устроил это для меня, всплывали из морских глубин острова, одинокие, пустынные и таинственные в угасающем свете. Я не мог желать большего, да мне и не нужно было больше ничего. У меня было все, что только может пожелать человек, и я это понимал. А еще я понимал, что вряд ли все это повторится. Я чувствовал, что приближается война — с каждым днем она становилась все неотвратимей. Но еще какое-то время будет мир, и люди смогут вести себя, как подобает людям.