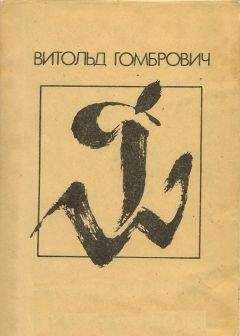*
Тогда Чечишовский за руку меня схватил: «В сорочке ты родился! Видишь Барона? Барон стоит, самого Барона поймал, вон перед витриной стоит, да один, без Компаньонов, пойдем же к нему, или не пойдем, о службе твоей поговорим, или не поговорим!» — «Приветствую, приветствую дорогого Барона, как здоровье, успехи, или неуспехи, а вот господин Гомбрович, от родины отрезанный, здесь остался и с нами вместе неуверенность нашу и тревоги переживает, да и работы какой-нибудь ищет!» Взглянул на меня Барон. И сердечно меня обнял! И вот, обрадованный, отбегает, опять подбегает и к груди прижимает — «а может, перекусить чего, а может, выпить» — меня Домой к себе приглашает и Жену, которая куда-то подевалась, ищет, потому что жене своей представить меня хотел. — «Заезжайте-ка Вы к нам во вторник! Будем рады!» Но сказал Чечишовский! «Ему бы занятье какое пригодилось, ибо в нужде он, ведь я его без долгих размышлений сразу к Барону-благодетелю: где обильно сервируют, там обильно подают». — «Что такое? — воскликнул Барон. — В нужде? Какие проблемы? Можете не беспокоиться! Прямо сегодня велю, чтобы Вас, золотой Вы наш, секретарем моим в Компанию приняли с окладом 1000 или 1500 песов! Нет проблем! Порядок! Часы работы сами себе назначите! Порядок, значит, а сейчас бы надо это дело чем-нибудь запить да закусить!» Идем мы, стало быть, по рюмашке с Бароном опрокинуть, и в блеске солнца уже все кажется улаженным, и я, видать, Опекуна, Отца и Короля нашел великолепного, о, благодаря Тебе, Боже, мне уж полегче жить будет, вот и прошли, исчезли заботы и печали, но что это, Боже мой, Боже, что же это делается, почему Король, Барон мой, потух, затих и меня печалит, делает маленьким, почему солнышко мое за тучу заходит?.. А-а-а, это же Пыцкаль, Пыцкаль подлетает!
Пыцкаль — Барона компаньон — был пониже ростом, покоренастей, и насколько один великолепным, прекрасным, рослым, горделивым был мужчиною, настолько другой-как корова жевала или только что из-за овина. Напрасно Барон ему рассказывает и докладывает, что он меня, друга своего, служащим принял, Пыцкаль вместо ответа лишь на меня вылупился, потом — на Барона, а, плюнув, изрек: «Ты что, с луны что ль свалился, чтобы без совета со мною новых служащих в Дело принимать, кретин ты что ли; ну так я твоего служащего погоню, вон, вон, вон отсюда!» Хамством таким ужасным оскорбленный, Барон поначалу слова вымолвить не мог, а потом закричал: «Запрещаю! Воспрещаю!» … на что Пыцкаль пасть раззявил: «Себе, а не мне запрещай!.. Кому ты запрещаешь?!» Барон крикнул: «Попрошу без скандалов!» Пыцкаль крикнул: «Ах мы нежные какие, так я тебе его отделаю, неженку твоего, морду ему побью!» … и ко мне с кулаками, того и гляди, Побьет меня, убьет, может, изобьет этот вот зверь, этот палач, укокошит меня; Погибель, стало быть, Смерть моя настала; но что это, почему мучитель мой медлит, почему не бьет меня?.. А-а-а, это ж Чюмкала — третий компаньон Барона — откуда-то сбоку подвалил!
Чюмкала — костлявый, блондин лупоглазый, рыжий — картуз снял и ко мне руку большую красную тянет: «Чюмкала!», чем неожиданно Пыцкаля в оцепенение ввел. «С ума сойти, — рявкнул Пыцкаль, — я ж его тут бью, а этот лапу тянет, я большего Кретина-Болвана в жизни не видел; ну чего лезешь, чего вмешиваешься?» — «Запрещаю! — крикнул Барон. — Запрещаю!» Криком напуганный, засмущался Чюмкала, руку большую в карман сунул и в кармане шарить принялся, но тут же копания своего в кармане застыдился, а от стыда вид сделал, что якобы он ищет что-то в кармане, чем еще сильнее Барона, Пыцкаля взбесил: «Ты чего там, растяпа, ищешь, — крикнули они, — чего ищешь, разиня, чего ищешь!» так, что, со стыда едва жив, Чюмкала, красный как рак, не только руку из кармана, но и пробку от бутылки, цедульки какие-то помятые, ложечку, шнурки, рыбок вяленых достал. И как только эти рыбки свету явились, сразу тишина воцарилась, потому что от рыбок этих стало им вдруг как-то муторно.
Я вспомнил, что Чечиш мне говорил, что там между ними как между Компаньонами давнишние были Распри, Обиды, Претензии, насчет, кажись, Мельницы какой-то, Залога; именно поэтому у Пыцкаля при виде рыбок сих аж дух сперло и он заревел: «Караси вы мои, караси; Уж ты мне за все заплатишь, я тебя по миру пущу», но Барон лишь кадыком двинул, слюну сглотнул, воротничок поправил и говорит: «Реестр». На что Чюмкала отвечает: «Овин от той гречки сгорел», а Пыцкаль посмотрел косо — «вода была», — проворчал, и так они стояли, стояли, Чюмкала почесал за ухом, а когда тот за ухом чешет, то Барон — щиколотку, Пыцкаль же — правую голяшку. Говорит Барон: «Не чешись». Отвечает Пыцкаль: «Я не чешусь». Чюмкала замечает: «Это я чесался». Тогда Пыцкаль: «Я тебя почешу». Говорит Барон: «И почеши, почеши, ты как раз по этому делу». Пыцкаль ему: «Я тебя чесать не стану, пусть тебя Секретарь почешет». Тогда Барон подает голос: «Секретарь мой чесать меня будет только когда я ему прикажу». Тогда Пыцкаль: «Я твоего Секретаря к себе переманю и у тебя его заберу, меня он будет чесать, когда я захочу, и хоть ты Пан из Панов, а я Хам из Хамов, он тебя будет чесать, когда того мне захочется или не захочется. Чесать будет». Говорит Барон: «Кто Хам из Хамов, а кто Пан из Панов, а ты от меня этого Секретаря не переманишь, я его к себе от тебя переманю и меня, а не тебя он почешет». Тут Чюмкала взорвался плачем, ревом великим: «Ой, Батюшки-Светы, что это вы все для себя хотите, себя чесать с моей бедой, с моим Страданьем-Горем, уж я-то его от вас переманю, уж я его переманю!» И давай меня тянуть, дергать, друг у друга из рук вырывать, тянут, тянут и таким манером в дом какой-то меня втянули, а там ступеньки, по ступенькам, стало быть, тянут, дергают, один у другого из рук вырывают, а там сбоку дверца маленькая, на которой дощечка «Барона, Чюмкалы, Пыцкаля Конское Собачье Дело», а за дверью прихожая большая, темноватая, а в ней — стульчики. Барон перед Чюмкалой, Чюмкала перед Бароном, Пыцкалем, Пыцкаль перед Чюмкалой Бароном меня на стульчик посадили и, вежливенько попросив меня немного подождать, в другую комнату удалились, на двери которой написано было: «Правление Имуществом и Делами, Вход воспрещен».
Один оставшись (ибо Чечиш давно уже умотал) в наступившей после шумного прихода нашего тишине, я с интересом озирался. Людей этих странность (а ведь, кажись, за всю свою Жизнь более странных не видел), да та свара, которую они меж собой вели, очень уж меня от всяких сношений с ними отвращали; но надежда постоянного, а может даже и приличного заработка заставила меня остаться. Прихожая, как я говорил, была темновата, бумагою темной оклеена, однако бумага обтрепанная… там-сям пятна жирные… или дыры или отодрано где, но залатано, мухами засижено и подсвечник со свечой, стеарином везде накапано. Половицы стертые, от хождения измызганные, там в углу старая газета шуршит, верно, мышки под ней сидят. А тут и ботинок задвигался и к табаку стал приближаться, а букашка малая, из щели в полу вылезла, к сахару упорно ползет.
Среди шорохов этих я дверь в соседний зал приоткрыл. Зал большой, длинный и сумрачный, и ряд столов, за которыми служащие сидят, над Письменами, Реестрами, Фолиантами прилежно склонились, а бумаг уж столько, столько навалено, так ими все завалено, что двигаться, почитай, нельзя, ибо и на полу всюду бумаг множество и цедулек; а Реестры из шкапов лезут, аж под потолок уходят, на окна залезают, все бюро собою занимают. Если какой из служащих пошевелится, то как мышь в этих бумагах зашуршит. Впрочем, много было и других предметов, как то: бутылки, или жесть согнутая, дальше — блюдце разбитое, ложка, обрывок шарфа, щетка облысевшая, дальше — кусок кирпича, рядом — штопор, хлеба корка, множество ботинков, также носок, перья, чайник и зонт. Всех ближе ко мне сидел старый худой служащий и стальное перо на свет смотрел, пробуя его пальцем, а сам — вроде с флюсом, потому что в ухе вата; за ним — второй служащий, помоложе и румяный, на счетах считал, да заодно колбасу покусывал, еще дальше — служащая расфранченная да начесанная, в зеркальце посматривает да кудряшки поправляет, а дальше — другие служащие, которых числом было восемь, а может и десять. Тот пишет, этот в Реестре чего-то ищет. Тем временем полдник, то есть: чашки с кофием и булки на подносе внесли и тогда все служащие, труды свои прервав, вокруг еды собрались и сразу же, как водится, разговор зазвучал. Смех меня разобрал при виде Питья Кофию служащих сих! Ибо с первого взгляда видно было, что который уж год друг с другом вместе в одном и том же бюро пребывая, ежедневно тот же самый вековечный кофий пия и вечную же свою булку жуя, теми же самыми своими шуточками старыми друг друга потчуя, они всё с полуслова понимали.
Тогда служащая кудряшки откинула и «Опля» сказала (и, верно, уж тысячу раз это говаривала), на что толстый кассир, за ней сидевший: «Ах ты, котик-коток, кудреватый лобок!» От чего радость чрезвычайная, смеются все служащие, за животики хватаются! Едва смех успел на бумагах осесть, Счетовод старый пальцем погрозил… а все уже опять за животики схватились, потому что знают, что он скажет… он же говорит: «К копирочке листок — бум-цык-цык, и копия в срок!» Еще больше радуются дамы, бумагами шелестят. Но служащая мизинцем левой руки правую щечку подперла! Но служащая мизинцем щечку подперла!., а тем временем Счетовод сильно шлепнул по плечу молодого, румяного служащего и шепчет ему: «Не плачь, не стоит горевать, Юзеф, Юзеф, ведь ножичек, тарелочка, муха, муха была!..»