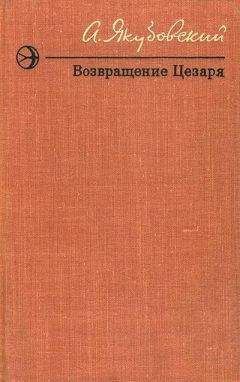Юрий, конечно, не отступится от дома, да и как ему скажешь? И выходит, у него твердое, неоспоримое право на комнаты, на половину кухни и огорода. Положим, от кухни он откажется. Что же, подавай ему комнаты? Было над чем подумать.
Наталья решительно встала и вышла в сени. На сундуке валялся Юрий — одна нога туда, другая сюда. Увидев ее, отвернулся. Она подошла, положила руку на твердую грудь. Как железный! Он толкнул ее.
— У, какие мы сердитые, — протянула она и присела к нему, почуяла сладковатый запах его пота. Мишка, даром что брат, пах иначе, противней — уксусом. Она привалилась к Юрию грудью, сказала хрипло:
— Зачем тебе девки, коли я завсегда дома.
Расстегнувшись, прилегла, бесстыдно шаря рукой.
А Юрий будто окаменел, не повернешь. Но обернулся, и она увидела крупное его лицо, изломанное брезгливой гримасой. Она ощутила укол в груди. Будто кто шилом ткнул. Вскочила, поглядела бешено и, погрозив пальцем, ушла. И часа два у нее почему-то все немели руки.
В сумерках, положив в тазик ранние цветы — пионы, Наталья ушла в центр. Там стояла в длинном и ароматном ряду цветочниц. Покрикивала:
— А ну, кавалер, купите барышне цветы! Не скупитесь, по дешевке отдам!
И далеко, как обычно в устойчивый летний вечер, неслись гудки и шумы поездов.
Зима — хочешь не хочешь, а встречай — пришла рано, в середине октября. Пришла самым подлым образом.
Осень долго обманывала, завлекала теплом, а там словно топором обрубила. В полдень было еще мягко, а в два часа небо лопнуло пополам.
Одна половина неба была цвета солдатского сукна, а другая — глубоко синяя, ледяная. Она дышала резкой стужей и сеяла из черных, небыстрых туч снежные блестки. Черное рождало белое. Наталья как раз глядела в окно и пробормотала рассеянно:
— Белое из черного.
И ахнула, ударила по жестким бедрам ладонями — огород-то не убран! В грядах еще сидела толстая, красная морковь, светила из земли округлым верхом белая редька. Не выкопаны георгины, самые лучшие, кактусовидные.
Наталья кое как оделась, схватила лопату. Гряд било мною, копать тяжело: холод тронул землю. Но успела, выворотила все как есть с ботвой, с комьями сырой, липкой земли. Так и приволокла в сени, свалила в угол и прикрыла разным тряпьем. Теперь на мороз было плевать. Правда, на «китайке» оставались несорванные кислые яблочки. Но мороз полезен, он их подсластит. А оборвать до налетов зимних птиц и соседских пацанов всегда можно.
И охватила Наталью слабость. Вся расслабла, стала как студень. И, не умывшись, с земляными руками, она присела на табуретку.
Сидела и глядела в окно.
На дворе — снег. Широкие, плоские хлопья, словно клочья рваной бумаги, падают, переваливаясь с боку на бок, ложатся один к другому, один на другой. По ним ходят белые легорны, высоко поднимая зябнущие ноги. Да они же не белые, они — грязные. Ободранный в сотнях драк петух подцепил где-то еще и пероед (перья на нем оставались тремя пучками: два на крыльях, один на хвосте). Петух ходил по снегу голый, багрово-красный, жуткий…
Кур следовало давно загнать в теплый катух, а Наталья сидела.
Куча дров, нарубленная Юрием, не унесенная в сарай, медленно превращалась в горбатый сугроб — Наталья сидела.
Ветер хватал снежные хлопья, нес в распахнутый угольный ящик. Уголь сначала был сивый, на манер седеющего брюнета, а там и совсем побелел. Теперь, если стукнет оттепель, уголь напитается водой, а в холода смерзнется, и всю зиму его придется долбить ломом. Так просто было выйти и прикрыть ящик.
Наталья сидела.
И выкипал чугун картошки, уже несло гарью. Наталья преодолела себя, встала, отодвинула тяжелый чугун с огня. Пробормотала:
— Так и сдохну у плиты.
В дверь постучали. Наталья вспомнила, что не закрыла наружную дверь на задвижку, крикнула:
— Входите!
В сенях завозились. Дверь заскрипела по-зимнему, тонко и жалобно, открылась и впустила белый кружащийся пар. Вместе с ним вошла чернушка в модном демисезоне. Наталья ахнула. Та потаскуха, стерва летняя! Сама пришла, без Юрия. Ну и сильна!
Собственно, потаскуха она или нет — не знала Наталья даже приблизительно. Сгоряча палила! Ругнуть и сейчас? Но взял Наталью какой-то неясный страх, так и вынул все косточки.
Было в чернушке что-то значительное. Изменилась, постарела. И — беременна. Это заметно не по фигуре, а по глазам, лицу и еще чему-то, скорее угадываемому, чем видимому.
Прикрыла дверь, уставилась бесстыдными глазищами, жгущими прямо ощутимо. Только сейчас Наталья увидела ее тяжелое, сильное лицо с явной деревенской грубоватостью. И — взгляд. Без улыбки, без растерянности или иной женской слабости. Твердый, многозначительный.
— Тебе чего? — спросила Наталья, шевельнув немеющими губами.
— Я пришла предупредить тебя, — сказала женщина. — Сразу. У меня ребенок будет от Юрия. Мы поженимся. Решено это, не отговоришь — ребенок!
— От Юрия? — ехидно переспросила Наталья.
— Нам лучше знать. Не все же такие прокипяченные, как ты. Так вот, решим сразу, заблаговременно — полдома его. Грабить вам его больше нечего, достаточно отхватили! Так и решим, чтобы потом шуму не было. А тот стыд — летний! — я еще попомню тебе, так попомню.
— Ой, не обожгись, красавица!
— Не обожгусь, я тебя знаю. Так вот, поделимся и два выхода сделаем, и загородку поставим. Мне на тебя смотреть-то противно. На свадьбу не приглашаю!
…Давно хлопнула дверь, а Наталья все сидела, уставясь в окно. Не видела — замерзшие куры взлетели на завалину и тянули шеи, склевывая снежинки, липнущие к стеклу.
— Ну, змей, ну, змей, — шептала Наталья. — Предатель… — Ей было тяжело, душно… Делиться! Это значит, и дом пополам, и двор пополам. Сарай тоже надо будет делить пополам и огород.
Да, и огород, холеный, взлелеянный, сытно удобренный.
Наталье казалось — и ее режут пополам.
…Пришел Мишка. Оббивая снег, он топал в сенях ногами. Словно по голове.
Он пах свежестью, был красноморд, шумлив, противен.
— Вот погода! — гаркнул восхищенно. — Завертело! Это хорошо, по-сибирски! А ты чего нахохлилась? И куры все во дворе. Я их в катух столкал, но как бы не поморозились ночью. В подпол их посадить, что ли? Ну, что онемела? Говори. Жратва готова? А?
— Юрка женится, — сказала Наталья.
— Да ну! — изумился Мишка. — На ком?
— На той, летней…
— У парня губа не дура… А, чего темнить, скажу откровенно — хорошо это! Он тих, ему боевую бабу нужно. Да и инженер она, умная.
— Зато ты дурак! Делиться придется! Все пополам!
— Ну и что же, его доля, пусть.
— Молчи! — завопила Наталья. — Молчи! Молчи!
Она кричала, приседая, топая ногами. Слюни пузырились у нее на губах, желтые тонкие космы вылезли из-под платка. Михаил глядел на нее со страхом и жалостью. Дождался тишины. Сказал:
— Это тебя жадность губит, все себе захватить хочешь. Вот потому и бездетная.
И снова крик:
— Молчи! Гад! Дурак! Молчи-и-и…
Иссякнув, Наталья сама замолчала. Да и о чем теперь говорить? К чему работать? Вот придет погубительница и все отнимет. Она молодость свою, мимолетную, невозвратимую, вбила в этот дом, а та… Обрюхатела! Грудаста, широкобедра… Значит, дети пойдут. А она вот так и помрет бессчастной. Не будут касаться ее цепкие лапки, не ощутит сладкой боли в сосках, не услышит чмоканье маленьких губ. Пройдут мимо нее медово-горькие радости материнства.
Умрет — не вспомянут.
Вечера она теперь проводила в недвижности, оцепенело глядя в темноту. И видела в ней разные фигуры. Но чаще один образ, одна картина являлась ей: высокая черноволосая женщина с белым сверточком на руках, красивая, молодая, торжествующая!
А будущий раздел представлялся в виде громадной пилы, вдруг опустившейся на дом. Она даже видела сверканье зубцов, летящие опилки, слышала жадно всхлипывающее рычанье пилы: «Жвяк-жвяк!.. Жвяк-жвяк!..»
Особенно часто видение опускающейся пилы мучило ее во сне, вернее, на той грани сна, где еще одолевают дневные мысли и заботы, но теряющие свои очертания, колышущиеся, словно в воде.
Почти каждую ночь ей не то снилось, не то воображалось одно и то же: Юрий с чернушкой распиливают поначалу дом, потом сарай и, наконец, чтобы она сгорела, уборную. Наталья крепко помнила рассказанное ей давным-давно тетей Фешей. На суде разбирали жалобу двух братьев. Они никак не могли поделить родительский дом. Тогда, решив, что дом еще крепкий, они начали распиливать его пополам. Дом, конечно, развалился. Может, и не было такого случая, а она верила — был! Как известно, дураки произрастают в изобилии.
Наталья потемнела лицом. В белках ее глаз стала просвечивать желтизна, в горле, портя вкус еды, застряла горечь желчи, лютая, прилипчивая — не отплюешься.
Как-то вечером она забежала к тете Феше.