Аркад был давно умерший муж моей тетки. Потусторонние беседы с супругом и усердные занятия оккультными науками помогали ей стойко нести бремя многолетнего вдовства. Покончив с Синей Бородой и возвратив Аркада царству топей, она извлекала из сумочки колоду игральных или гадальных карт и справлялась у матери, что она желает выбрать на сей раз:
— Раскрыть всю колоду? Хватит ли у меня сегодня флюидов?
Мать отвечала обычно, что флюидов у тетушки вполне достаточно, и Луиза раскладывала на столе карты, тасовала, наставляла снова и снова снимать, вытягивала карты, опять собирала их в колоду и все том же своим монотонным, слабеньким голоском, подкрепляя его выразительной мимикой, предрекала нам беды и радости, сетуя на то, что незримые силы вечно чего-то недоговаривают. Она подолгу держала вытянутую руку над картой и шептала, закрывая глаза:
— Странно… Я что-то чувствую.
Мама в испуге тоже наклонялась над картами. Я ждал, что призраки вот-вот вмешаются и сами выложат все, что они дли нас припасли.
— Налицо некое враждебное совпадение, — добавляла тетя Луиза, — но я но в силах расшифровать, что же оно означает,
Она опять давала снять и тянула из колоды другие карты, и все же, к большому маминому разочарованию, порой бывала вынуждена признать свою неудачу:
— Ничего не поделаешь, Жюльетта, они не хотят мне сказать подробнее.
Иногда, в простоте душевной, она высказывала предположения, чреватые довольно рискованными последствиями.
— Ах! Я вижу предательство! Вижу одну особу, которой вы доверяете, но она этого не заслуживает… Да, да, да, совершенно не заслуживает, — говорила она мягко и ласково, очевидно не замечая, какое смятение вызывают эти слова в склонном к подозрительности сердце.
Мать немедленно принималась искать предательницу, перебирая одну за другой своих близких подруг, и делала это с энергией и упорством восточного деспота, которому грозит кинжал или яд. Зачастую оказывалось, что нас предают и нам изменяют именно те, кто казался честнее честного; на этом убийственном открытии гадание заканчивалось, тетя Луиза невозмутимо собирала карты и мирно возвращалась домой, в свою выходившую во двор квартирку на первом этаже, возле площади Терн, и ее уход меня огорчал, потому что я безгранично восхищался ее всеведением и надеялся, что она в конце концов откроет и мне мою будущую судьбу, но она неизменно отказывалась, ссылаясь на мой юный возраст. Должно быть, духи не интересовались детьми.
— Значит, ты сегодня вечером увидишь Аркада? — спрашивал я порой, когда она прощалась.
В своих ответах она была крайне осторожна и давала понять, что человеческие существа уходят в потусторонний мир со всеми присущими им при жизни недостатками, в частности с непостоянством, потому что однажды она сказала, покачав головой:
— Знаешь, эти мужчины!..
Мужчину, которого она имела в виду, я знал только по портрету — костлявое лицо, галльские усы, — висевшему над той самой кроватью, подле которой он являлся к жене с того света, недалеко от этажерки, уставленной книгами по черной магии и теософии, с картинками, на которых от медиумов исходило разноцветное сияние; я очень любил их рассматривать, когда меня приводили в это сумрачное жилище, где, по моему глубокому убеждению, было больше сокровищ, чем в каком-нибудь дворце из сказок «Тысячи и одной ночи». В том, что этот Аркад был все так же непоседлив и постоянно кочевал из одного мира в другой, не было для меня ничего удивительного, поскольку при. жизни он был шофером такси, а люди этой профессии привыкли всегда колесить по дорогам. Я узнаю также, что некоторые его странности отразились и на рассудке дочери, подверженной нервным припадкам, и что виною в том дурная наследственность, которая проявляется в нашей семье, как правило, по женской линии: ведь и другая моя тетка, та, что жила в доме с волком и с бедняжкой Пьером, так рано ушедшим из жизни, тоже, как мне говорили, умерла в состоянии помешательства, распевая — это пасторская-то жена! — непристойные песни.
Призрак Аркада лишний раз убеждает меня в том, что отцовским родственникам присуща нематериальность. Порой вечерами отец достает из стола пожелтевшую, покрытую пятнами фотографию и подолгу вглядывается в нее. Взгляд, выражение лица молодой женщины, поясной портрет которой я вижу на фотографии, удивительно напоминают отцовские черты лица, его взгляд…
— Это мама, — шепчет он умиленно, и детское слово странно звучит в устах человека, обычно не склонного к излияниям чувств. В его голосе явно слышится также и скорбь. Молодая женщина умерла, когда мальчику было два года, что вряд ли позволило сохранить о том времени какие-то воспоминания. У него было еще девять братьев и сестер, и большинству из них была суждена участь бедняжки Пьера; это целая вереница существ, для меня почти абстрактных и воображению неподвластных. Воображение мое в лучшем случае бродит где-то вокруг приемных родителей — словечко, возбуждающее мое любопытство. Оно означает земледельцев из Морвана, к которым отца поместили после смерти его матери и которые воспитывали его до той поры, когда он был отдан в монастырский пансион Братьев христианской школы; это суровое детство стало семейной легендой, которую он любил не без гордости вспоминать — вспоминать школу, расположенную за много километров от фермы, и как он шел туда в любую погоду, в снегопад и в трескучий мороз, и как дрался со школьниками из соседних деревепь, и как вместе с приемными родителями работал в поле, и какая жестокая дисциплина была у монахов.
Все это составляло целую героическую эпопею, я внимал ей с большим интересом, но одновременно и с некоторым унынием: уж слишком все в ней отличалось от моей собственной участи. Сочувствовать отцу я был мало склонен — может быть, оттого, что история эта была как бы из области чистого сочинительства и представлялась мне поэтому нереальной, как в сказке. Тот факт, что ее героем был мой отец, пожалуй, еще больше увеличивал дистанцию, которая пролегала между ним и мною из-за моего исконного перед ним страха. У отца было — или он приписывал себе — столько всяческих достоинств, что мое собственное существование выглядело по сравнению с этим совершенно ничтожным и жалким. Разве мог я заинтересовать героя этой легенды, думал я, когда передо мной мелькали все эти картины — приемные родители, фотография его матери, раннее сиротство, заснеженная равнина, а потом, как продолжение этого детства, — боевые подвиги на войне. В сравнении с этим явная моя неполноценность и тем самым вина становились особенно очевидными, что побуждало меня с новой силой искать утешения под крылышком матери, искать хоть какой-то повод для самоутверждения; я находил его в моем сумеречном появлении на свет, в поползновениях вернуться назад в небытие — в этой поддерживаемой мамой легенде, тем более что ее хранительница, казалось, не испытывала такого уж безграничного восхищения перед хрестоматийными доблестями отца. И даже более того.
Я очень рано ощутил, что в том, как мама относится к отцовской эпопее, даже к той ее части, что была бесконечно возвеличена яркими отблесками войны четырнадцатого года (которую он провел на самых опасных участках фронта, в том числе под Верденом, где был отравлен газами), проглядывает некая тень, похожая на ту, что вставала между мною и матерью, когда в наших утренних играх на большой кровати я пытался перейти границу дозволенного. Имела ли эта тень ту же природу? Не знаю, но казалось, было что-то общее между той первой преградой и этой, которую я ощущал, когда отец пускался в воспоминания, а у матери делалось непроницаемое лицо, словно все эти подвиги, которые должны были вызывать восхищение, били мимо цели.
Отец напрасно старается прыгнуть выше головы.
Такое поведение матери, хотя оно в чем-то и совпадало с моим, все же смущало меня. Оно позволяло угадывать более серьезные разногласия. Можно сказать, что наша семья начинает уже утрачивать былое единство. В моих отношениях к отцу и к матери возникает какое-то расслоение. Я даже спрашиваю себя теперь, не сознавал ли этого отец, когда в ответ на равнодушие еще больше жал на педали. Правда, иногда случается и так, что моя тревога, вызванная скрежетанием ключа в замке, оказывается напрасной. В дверях возникает вовсе не тот молчаливый чиновник, который всецело поглощен лишь двумя вещами — своей службой, где толпа соперников плетет коварные интриги, чтобы его погубить, и постоянными болями в желудке, доставшимися ему в память о героической военной поре. Наоборот, отец что-то весело напевает с победоносной улыбкой и, не отпуская никаких критических замечаний по поводу меню, садится за стол, щедро наливает себе вина и вскоре приступает к традиционным рассказам о детстве, армии и войне, а мать со скептическим видом пресыщенного однообразным зрелищем театрала тяжело вздыхает и удрученно следит за тем, как падает в бутылке уровень вина.
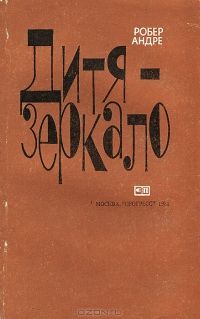


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

