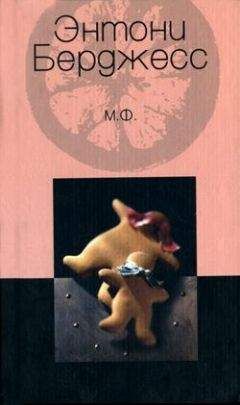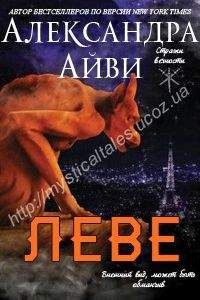– Лимузин до Кеннеди. Карибские авиалинии, «Удара Индонезия» и «Лофтсакс».
Странные компаньоны для моего рейса, но я обрадовался. Благослови Бог услужливый синдикат. Водитель даже вышел, смуглый мрачный карлик с широкими плечами, и кинул мой саквояж, легкий для него, точно косточка персика, в багажник. Внутри была темнота, и всего два других пассажира. Возможно, в других отелях наберут еще. Это были два молодых человека в рубашках с открытым воротом, одетые вовсе не для полета, индифферентные ко мне и друг к другу. Шофер втиснул могучие плечи, и автомобиль влился в поток машин.
Не прошло и пяти минут, как я забеспокоился. Каждый свое дело знает, но эта дорога совсем не казалась разумным путем к аэропорту Кеннеди. Во-первых, насколько я помнил, надо выехать из Манхэттена на большой пласт земли под названием Куинс, переправившись через Ист-Ривер, по-моему, по мосту Куинсборо или Уильямсберг или под рекой по туннелю Мидтауи. Наш шофер вел машину на север. Справа безусловно Центральный парк. А это безусловно Бродвей. Мне пришлось нервно заметить:
– Я далек от того, чтобы учить другого его делу…
Шофер меня проигнорировал, но два других пассажира стали теперь разговорчивыми. Один даже пересел со мной рядом и объявил, дыша как бы запахом пиццы с анчоусным соусом:
– Хорошо, правильно. Далек, далек, очень далек, это ты точно сказал.
Открытое, неубедительно святое лицо его изобразило улыбку. Я вновь ощутил подозрение, которое потом обернулось стыдом за свое замечание: шофер безусловно свое дело знал.
– Я знаю, – пробормотал я, – про мост Тирборо, но считал, что это на Ла-Гуардиа, думал…
Теперь на сиденье передо мной оказался другой молодой человек, обернулся, чтоб видеть меня, сложил руки на спинке. Если взять за радиус носовую перегородку, то ноздри его были градусов на пятнадцать выше нормального.
– Кстати, про мосты, гляди, у меня вон какой, да только сидит очень плохо.
Открыл для демонстрации рот, и четыре верхних передних зуба выскочили единым комическим клином. Засосал их обратно с притворным наслаждением. Водитель, не сводя глаз с Девяносто шестой, должно быть, улицы впереди, предупредил:
– Чтоб сиденья были чистые, в полном порядке, ребята.
– Да вот тут уже ладно, Джек, – сказал парень с ликом святого. – Прямо тут.
Лимузин притерся к тротуару. Я кисло спросил:
– Вы от Лёве, да?
Они любезно махнули, чтоб я выходил. Парень с мостом выхватил из багажника мой саквояж. Они любезно махнули, чтоб шофер ехал. Мы стояли на Бродвее у какого-то кинотеатра, крутившего фильм под названием «La Forma de la Espada».[24] Рядом в ярком пестром свете сновала масса средиземноморских типов. Парень с мостом любезно протянул мне саквояж. Я взял и, как ожидалось, всадил в живот его компаньону. Они обрадовались. Насилие инициировал я. Первым делом вырвали у меня саквояж, открыли и начали раздавать попавшие под руку вещи беднякам даго.[25] Пачку сииджантинок разделили между собой. Я совсем взбесился, как ожидалось, и попробовал одолеть их обоих. Они посмеялись. Парень с ликом святого сказал:
– Из Манхэттена много дорог. Вот таких, например.
И они принялись за меня среди индифферентных прохожих, многие из которых говорили по-испански. Раз в Трогс-Нек, другой в проезд Роберта Мозеса, хорошенечко в Таппан-Зи, два на счастье в Гоуталс, заключительный цветик в Хелл-Гейт. Все это было прелюдией к изъятию денег. Мост держал меня в болезненном захвате, а Святой Лик, словно желая загнать мои яйца в бильярдную лузу, сунул сзади руки и вытащил почти все пятьсот долларов. Смачно поцеловал пачечку, точно какую-нибудь драгоценную реликвию, потом Мост, шутя, замахал моим саквояжем на латинян, которые разбежались, даже не усмехнувшись в ответ.
Особенной боли они мне не причинили. Поупражнялись на механическом манекене, выполнили перед ограблением обязательный ритуал, и почти ничего больше. Что мне теперь, черт возьми, делать? Я пересчитал оставшуюся в кармане мелочь. Три дайма, четыре-пять никелей, два четвертака, несколько пенни и (хотя их, как священный медальон, окружала аура неразменности) памятные полдоллара с изображением Кеннеди. Прямо рядом с «La Forma de la Espada» был бар. Я зашел и направился к длинной грязной стойке. Мужчина заказывал пиво в глиняной кружке.
– Чего, приятель? – сказал бармен.
– Пива в глиняной кружке, – сказал я.
Крупная блондинка в тесном летнем платье безумной расцветки с крупными пятнами пота под мышками стояла у стойки с пустым стаканом, где, кажется, был когда-то коктейль «Александра». Дерзко на меня взглянула и говорит:
– Накостыляли немножечко, или что?
– Точно. Ограбили и помяли.
– Крутые ребята, – без особого сочувствия заметила она. Я подвинулся к ней поближе вместе со своей глиняной кружкой. Надо было как-нибудь раздобыть денег.
Она привела меня к себе в волшебную пещерку, оказавшуюся квартирой на Риверсайд-Драйв, на третьем этаже, но только после долгой беседы за грязным столом в мрачном неаппетитном углу того самого бара. Вот ее автобиография: многообещавшую юную жизнь испортили мрачные, загнанные в неаппетитный угол мужчины. Она вполне охотно угощала меня выпивкой, ровно столько же пила сама – в основном могучие смеси вроде водки с зеленым шартрезом, ром и джин с гренадином, бенедиктин с коньяком. Ее хорошо знала здешняя администрация: самый экзотический запас в баре явно держали только для нее. Мне же, милому, по ее выражению, мальчику, не выпивка была нужна: я хотел прийти, влезть, войти, выйти, слезть, выскочить, удрать с несколькими купюрами высокой деноминации, лежавшими у нее в сумочке. Лёве меня задержал, только, может быть, это, в конце концов, дающий ключ шанс, но я не собирался задерживаться дольше следующего подходящего рейса, вылетавшего, по-моему, скоро я уточню, на рассвете. В такое время года рассвет, фактически, не так уж далеко. Глупый Лёве, намекнув на тайну, твердя об отсутствии спешки, заставлял очень спешно разгадывать тайну. Я не мог задерживаться с выясненьем причины насильственности этой задержки, если она насильственная. Я почти забыл Сиба Легеру: он стал просто устрицей в раковине, которую Лёве облил маргариковой кислотой. Главный пункт в данный момент: сколько в твердой валюте потянет маленький кусочек моей твердой мужественности по мнению этой женщины.
Которую звали Ирма.
– А он говорит, Ирма, ты шлюха. Тут я заплакала, он же знал, это неправда, ты еще слушаешь?
Я еще слушал. Все мужчины в ее жизни были свиньи, перед которыми она метала маргариковые сокровища своей души и тела, а у нее талант художницы, все говорят, она склеивает кусочки не хуже того самого Раушенберга,[26] а мужчины ее погубили. Связь не совсем понятна. Она трижды выходила замуж, причем сплошь за кучу дерьмовых ублюдков, живет теперь на алименты (жирные, я бы сказал, алименты), и ее все равно погубили. Ну, ну, бедная, бедная Ирма.
– А теперь Честер, хороший, хочет меня любить, но не может, ясно, что я имею в виду?
Да, ясно: погублен. Она была примерно ровесницей цыпки-протестантки Карлотты, но крепче, мясистей, и груди совсем не тугие. Острый запах ее пота на этой предлюбовпой стадии возбуждал, как какое-то сдавленное рычание с двух сторон.
– Точно, погублен. Во всем его мать виновата, погубленное детство, и теперь, когда ему хочется, ну, понимаешь, нормально это сделать, ты еще слушаешь?
– Попробуй, заставь меня не слушать.
– Что-то как бы встает у него на пути.
Она вовсе не плелась, невзирая на отягощенную душу. Мы очень уверенно шагали к Риверсайд-Драйв. Обняла меня в маленьком лифте, так сказать, функционально, и опять назвала милым мальчиком. Когда вошли в квартиру, захотела позвонить, телефон же был в спальне. Вон на стене картины, сказала она, посмотри, увидишь погубленный талант, пока я позвоню. Талант, думал я па свой юный, лишенный сострадания лад, был погублен в зародыше. Она клеила на полотно куски старых журналов, главным образом фотографии астронавтов, эластичных пирожков с мясом, солдат в противогазах Первой мировой войны, политиков и тому подобное, объединяя детали малиновыми мазками и воплями из комиксов (ДЗЫНЬ, ВЗЗЗ, и так далее), крупно вписанными маркером «Джайант Джамбо». Но к моему изумлению.
Но к моему изумлению, среди вырезок оказалась страница книжного обозрения из номера «Гляди-и-и», впрочем, предположительно, вклеенная не ради одной колонки текста, а ради рекламы «Шерри Хиринг» (со льдом, крушащего лед), а в начале той самой одной колонки был снимок цыпки-протестантки в свитере, в жемчугах, с подписью КАРЛОТТА ТУ КАНЬ (что за национальность, господи помилуй?), под заголовком «Сдвиг кверху». Я прочел:
видимо, когда к западу катится сокрушительная волна демографического взрыва и человеческий сексуальный позыв начинает пугать, центр или центры эротического наслаждения могут стать исключительно грудными. Летиция, полногрудая героиня романистки Тукань, отлично оснащена для подобного сдвига кверху. Жаль, что проза не соответствует этой резко очерченной спелости. Ей, подвижной, но вялой, недостает как остроты, так и формы. При всей ловкости концепции или контрацепции, можно сказать, что «Баб Бой» в стилистическом смысле – провал за провалом.