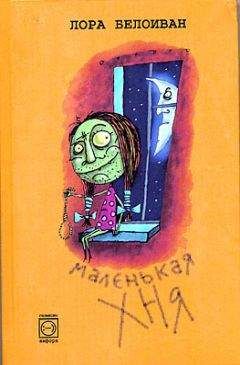Еще позавчера он сказал, что когда я чеканусь окончательно, он навестит меня на Шепеткова и освежит яблоками.
Я должна срочно выполнить одну левую заказуху, но мне не пишется. Если, честно, то и не живется. В таком состоянии хорошо бы опять нажраться, но кто-то добрый возвращает мне мышечную память о прекрасном, и я достаю мольберт. Почему-то захотелось написать этюд с белухами, и я даже сходила в дельфинарий, заплатив вместо 40 рублей 80. Меня тронуло, что администратор дельфиньей резервации отнесся к моему задрипанному этюднику как к личности, и я не стала спорить. Однако белухи так и замерли в состоянии подмалевка на холсте, не пожелав прописываться. Осталось до черта разведенных красок. Я использовала их на Анну Каренину.
Он, конечно же, поехал к маме. Это так тупо.
Я, наверное, не очень гожусь для семейной жизни. Почти не готовлю и почти не стираю. Правда, я придумываю интерьер и делаю ремонты. Но смена интерьера происходит раз в пять лет, а готовка жрачки требует ежедневного участия. Поэтому считается, что я ни хрена не делаю.
Я — творческая натура.
По мнению свекрови, просто хуевая жена.
В глубине души я с ней согласна.
Но, несмотря ни на что, мы жили хорошо. Расползались на лето по разным комнатам и встречались зимой под одним одеялом.
Десять лет мы жили хорошо, зимуя в общей кровати, и наконец выяснили: мы очень разные люди.
«Нас родили разные матери от очень разных отцов...» Он упертый технарь, а я — свободного полета гуманитарий.
Он не хочет признавать очевидных вещей, а говорит, что у меня едет крыша.
Я отвечаю, что у него-то и ехать-то нечему. В общем, все смешалось в доме Об...
Началось с того, что он сказал: его любимый писатель — Лев Толстой.
Я была бестактной. Покрутила пальцем у виска.
Как, спросила я, это может нравиться?— эта насильно сломанная кобыла, и убийство невзаправдашней Карениной, и тупость Наташки, поменявшей часы на трусы, и занудство, прямо-таки невыносимое занудство, и главное, все это вместе — сплошная дурацкая врака, увенчанная апофеозом дебилизма — ремиксом Евангелия, про который и вспоминать-то противно...
Я сказала, что Толстой — мудак и говно.
Он сказал, что говно — это я.
Я сказала, пошел ты тогда на хер.
Он сказал, пошла ты сама на хер.
Вечером я нажралась с двумя соседками, и ночью он выносил мою блевотину в новом тазике, в котором я собиралась варить варенье из черноплодки, но так и не сварила.
Утром я сказала, фиг с ним, с тазиком. Прости, я нечаянно нажралась.
Я хотела мира.
Он ничего не сказал. Мир подошел близко-близко, но тормознулся в трех шагах, на границе войны и перемирия.
Ну хочешь, я постираю твое что-нибудь там? — сказала я.
Он снова ничего не сказал, но мир тихонько подкрался еще на полшажка и замер, недоверчиво поджав хвост.
Я боялась его спугнуть и поэтому решила больше ничего не говорить.
На ночь мы разбрелись по своим комнатам.
Лето, жарко.
Перед сном я слазила в интернет на какой-то литературный сайт и случайно прочитала чей-то рассказ под названием «Монетка». Героиня рассказа тусовалась в аду вместе с классиками литературы. Довольно мерзопакостный Чехов правил адов бал, вел себя непристойно и вдобавок быстро наклюкался. Рассказ мне понравился. Я выключила комп и легла спать.
Проснулась я от ясного ощущения, что в мою комнату, через окно на пятом этаже, пришел Антон Палыч и сел на стенку. Я включила свет и действительно увидела на стене жирную ночную бабочку, но это был не Чехов, а Лев Толстой, Я узнала его по бороде и насупленным бровям. Пришлось встать, накрыть Льва банкой и выбросить на улицу.
Не успела я свернуться на своей девичьей постельке и погасить свет, как Толстой снова был в комнате. Покружив над лампой, Лев Николаевич увеличился до размеров один к одному и сел на мое царское место, подобрав довольно-таки грязные босые ножищи под кресло. Я смотрела на него с дивана, прикрывшись одеялом, и опасливо ждала, что будет дальше. Он же разглядывал меня оценивающе, как будто собирался писать мой портет и заранее определял границы светотени.
— А ты совсем не похожа на Анну, — произнес наконец классик. Это были его первые слова.
— С чего мне быть на нее похожей? — удивилась я.
— Но ты ведь тоже кончишь под паровозом, — заявил он.
— Какое изысканное извращение, — прогноз мне не понравился.
Толстой задумчиво смотрел мне в лоб. — Я бы на тебе не женился, — сообщил он вдруг, — ни при каких обстоятельствах.
— Да и я бы не согласилась.
— Почему?!
— От вас рождалось слишком много детей, — сказала я осторожно. Мне не хотелось нарываться.
Толстой запустил пальцы в косматую бородень:
— Сонька тоже с гондоном желала, да я не любил, — сказал он.
Я бы с удовольствием сказала «скотина вы, Лев Николаевич, мудак и говно», но опять конформистски промолчала. Однако и Лев сменил тему.
— И что сейчас люди читают? Вот ты, например? — поинтересовался он, — бест, как его, селлер какой-нибудь?
Я вспомнила, что от частого употребления на моей клавиатуре начали западать кнопки «х» и «г», и сказала:
— Фуфла не держим. А вы?
— Толстого перечитываю, — сказал Толстой.
— Стремно? — посочувствовала я.
— Да так, — признался он.
— И много еще осталось?
— До хуища, — вздохнул граф.
Я впервые в жизни почувствовала к нему что-то вроде симпатии.
— А вы Библию читайте, — посоветовала я.
Но Толстой, кажется, не расслышал, потому что как раз в тот момент ковырялся в ухе взятой со стола зубочисткой и рассматривал мои книжные полки. Наковырявшись, Лев Николаевич вытер серу о штаны, задумчиво разломил зубочистку надвое и бросил обломки в пепельницу.
— Я смотрю, я у тебя тоже есть, — заметил он.
— Это муж на ДК железнодорожников недавно купил. За 200 рублей, — сказала я и засомневалась: — или за 250?
— Понаставила одних эмигрантов зачем-то... Не нравлюсь я тебе?
— Да... — начала было я, но Лев неожиданно спросил:
— А где твой муж?
— В другой комнате спит.
— Интеллигентно, — одобрил он.
— Жарко просто, — сказала я.
— Так за что ты меня не любишь? — спросил опять Толстой. Он подошел к стеллажу: — Вот, на самый верх задвинула.
— А почему вы Аньку под поезд кинули, — сказала я.
— Аньку, говоришь, под поезд почему, — пробормотал Толстой в бороду, — да потому, что ненавижу ее, блядищу истеричную. Вот почему. Таким, как вы с ней, на рельсах самое место. Самое место.
— Зачем ты пришел, Лев? — спросила я. В моем голосе — и это было удивительно — совершенно не слышалось злости.
Толстой молча дотянулся до книжки в сереньком переплете, раскрыл на титуле и накалякал чего-то там маркером. Маркер он тоже взял со стола.
— А кто тебе больше всех из русских писателей нравится? — спросил вдруг он.
— Горин, — сказала я отстраненно.
— М-да, — пожевал в бороде граф. Он захлопнул книжку и положил ее на край стола. «Анна Каренина, том 1», — прочитала я на форзаце.
— Ну, а из классиков-то наших? — настаивал он.
— Шолом Алейхем.
Шагов я не слышала, поэтому дверь в комнату открылась неожиданно. На пороге стоял Яхтсмен. Он диким взглядом смотрел то на меня, то на Толстого.
— Лорик, ты чего?! — потрясенно спросил он.
— Заходи, твой кумир явился, — сказала я. Поколебавшись, Яхтсмен прикрыл дверь с той стороны и остался в коридоре, чтоб подслушивать. Но Толстой вдруг засуетился, засобирался. Не успела я ничего уточнить, как он здорово уменьшился, расправил крылья и, ни слова не говоря, был таков. «Полетел себя дочитывать», — подумалось мне.
Я цапнула со стола книгу и заглянула вовнутрь. «Лоре от Левы Т., без надежды, с печалью невыразимой», — было написано там. Я плюнула три раза, перекрестилась на «Утоли моя печали», залезла в постель, выключила свет и неожиданно быстро уснула.
Утром муж смотрел на меня с непривычным выражением лица. Я бы назвала это крайней степенью уважения. Я бы даже сказала, что это был пиетет.
— Тебе, Лорик, к врачу бы сходить, — сказал он, и пугливый мир отпрыгнул на десять шагов в сторону, — уж не знаю, к наркологу там или психиатру.
— За каким хреном? — удивилась я. Он выкурил целую парламентскую «сотку», прежде чем я дождалась от него развития сюжета.
— Нормальные люди с бабочками о литературе не разговаривают.
— Иди на хер, — сказала я.
— Сама иди на хер, — сказал он. Знаем мы таких бабочек.
Он, кстати, и про радугу на воде говорит, что это солярка.
Но я все же вернулась в свою комнату, взяла со стола первый том «Анны Карениной» и раскрыла на титуле. Никакого автографа там не оказалось. Но обломки зубочистки в пепельнице, но длинная седая волосина, выпавшая из книги прямо мне на ладонь... ни у меня, ни у него таких нигде не растет. Я, конечно, принесла ему зубочистку и волосину, но он сделал брезгливую морду и сказал, чтобы я выкинула «эту парашу» в унитаз.