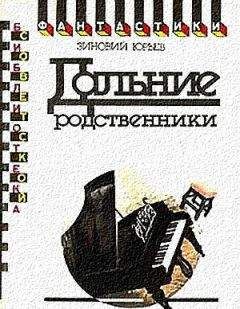– Мало еще очень, – сказал я.
– Ты зачем пришел? – закричала тетя Люка. – Ты зачем прогулял школу? Чтобы навестить Нюрочку или обсуждать физкультуру-шмизкультуру? Иди сюда!
Нюрочка лежала на большой тахте, вся обложенная подушками, так что ее почти не было видно, волосы разметались по большой белой подушке, а личико такое маленькое, бледненькое… На стуле около тахты стояла чашка, прикрытая салфеткой, на блюдце лежали очищенные дольки апельсина, а рядом восседал любимый Нюрочкин Буратино, нацелив на нее свой длинный нос.
– Саша пришел, – тихонько сказала Нюрочка и улыбнулась. Она выпростала из-под одеяла руку и помахала мне. Тетя Люка как-то странно хлюпнула носом.
– Ты только не очень утомляй ее, – сказала она строго и вышла из комнаты.
Я присел около Нюрочки на тахту, и она взяла меня за руку, а у меня сразу запершило в горле, и я отвернулся. Я, конечно, всегда любил ее, но когда она была дома, как-то мало, в общем-то, замечал: так, повозишься с ней иногда от нечего делать, а если сказать по правде, так она мне часто даже надоедала – она хоть и маленькая, а очень любопытная и бедовая. Нюрочка всюду совала свой нос и ужасно любила мне помогать. За что я ни возьмусь – она тут как тут: уроки ли делаю, или мастерю что-нибудь, или марки разбираю, или посуду мою – она обязательно хочет мне помогать. Помощи от нее ни на грош, больше мешает, а отвязаться трудно, тем более что и мама и папа на ее стороне. Правильно, конечно, нельзя на ребенка злиться, но мне не всегда это удавалось – иногда и подшлепнешь ее слегка. Особенно она мешала, когда ко мне ребята приходили. Вот уж тут-то от нее и совсем, бывало, не избавишься: лезет ко мне на руки и требует, чтобы все занимались только ее особой. Ребятам она, правда, нравится. Оська, например, с ней часами может беседовать, и оба они ужасно хохочут, а Ольга с ней часами может играть в куклы, хотя больше любит гонять с ребятами во дворе. И вот сейчас сижу я с ней, она меня держит за руку и что-то лопочет, а я ругаю себя за то, что плохо к ней относился, и даю себе слово, когда она поправится, относиться к ней гораздо лучше.
– Что ж ты болеешь? – спрашиваю я.
– Я уже сегодня совсем немножко болею, – – говорит Нюрочка, – вчера я очень сильно болела, а сегодня совсем чуточку. А когда мама приедет?
Вот уж этого я совсем не знаю. Чего-то они там в этом году очень долго по гастролям разъезжают, и неизвестно, когда приедут, то есть, конечно, известно, но я не знаю, а папа на эту тему говорит не очень охотно. Я раза два спросил, а он мне оба раза ответил: «Своевременно или несколько позже».
И я перестал спрашивать.
– Скоро, скоро, – говорю я, – скоро мама приедет.
И вспоминаю нашу любимую с Нюрочкой песенку:
Скоро праздник – воскресенье:
Мать лепешек напечет.
И помажет, и покажет,
И обратно унесет.
Мы три раза спели эту песенку, и тут вошла тетя Люка.
– Это что еще за художественная самодеятельность! – сказал она. – Хватит, хватит. Она устала. Придешь завтра. Только после школы, а сейчас пойдем – я тебя накормлю.
– Я уже завтракал, спасибо, – сказал я.
– Знаю я, как ты там один завтракал, – рассердилась тетя Люка. – Знаю я эти сибирские пельмени и болгарские голубцы. Идем.
Между прочим, пельмени и голубцы не так уж плохо, – мы всегда с батей питаемся ими, когда остаемся одни. Очень вкусно, а главное, никакой возни. Но сегодня-то я завтракал у Ольги. Я сказал об этом тете Люке.
– У этой мальчишки в юбке? – спросила тетя Люка. – А как ты там оказался?
Я рассказал.
– Хм, – сказала тетя Люка. – Какао ты все-таки выпьешь.
Спорить было бесполезно. Я поцеловал Нюрочку и пошел за тетей Люкой. За какао мы еще поговорили с дядей Юрой о предстоящей олимпиаде, а тетя Люка все время ворчала: «Как эти два безалаберных мужика, – это она имела в виду нас с батей, – живут там одни: голодные, холодные, грязные, они же совсем запаршиветь могут. Не понимаю я Веру – у нее семья и давно надо было бросить этот паршивый театр, эти театры вообще до добра не доведут». Я разговаривал с дядей Юрой и прислушивался к воркотне тети Люки, посмеиваясь про себя. Но вдруг что-то в воркотне ее меня зацепило. Я даже не понял, что́ именно, но что-то царапнуло меня, и я перестал слушать дядю Юру и начал вспоминать, о чем ворчала тетя Люка, разматывать ее воркотню в обратном порядке. И дошел до одной фразы, которая показалась мне странной. Я не помню эту фразу полностью, помню только, что тетя Люка сказала: «Так ему и надо» и еще упомянула Долинского. Я уже не слышал, что она говорила дальше, и думал: при чем тут Долинский?
– Что́ Долинский? – неожиданно для себя спросил я.
– Разве я что-нибудь сказала о… Долинском?
– Идиотская привычка думать вслух, – вдруг закричал дядя Юра, – да еще черт знает о чем! Не обращай внимания, Саша. Все это бабья болтовня. – Он вскочил и начал бегать по комнате, дергая себя за усы.
– Что ты, Юра, – растерянно сказала тетя Люка, – я ведь ничего не хотела…
– Не хотела, не хотела! – кричал дядя Юра. – Она не хотела! Понимаешь – не хотела она!
Я ничего не понимал. Я никогда не видел дядю Юру таким – он никогда не кричал на свою тетю Люку, а тут вдруг разбушевался. И ее я никогда не видел такой растерянной и даже испуганной. И все это вызвал лишь один мой вопрос о Долинском. А может, она и не называла его вовсе – мне только послышалось, а я возьми и брякни что-то не так, – со мной это бывает. Я начал их успокаивать:
– Ну что вы, ведь я просто так спросил.
Тетя Люка сразу успокоилась.
Я попрощался и ушел, ничего не понимая. Уже на улице я вспомнил, что так и не спросил, чем же больна Нюрочка, и хотел было идти обратно, чтобы спросить, но потом решил, что не стоит: с Нюрочкой вроде бы все в порядке, а там сейчас, наверное, дым коромыслом: дядя Юра и тетя Люка воспитывают друг друга.
Я шел и посвистывал, но что-то все время скреблось у меня внутри: кому это «так и надо» и при чем здесь все-таки Долинский? Я начал вспоминать Долинского. Он работал с мамой в театре и часто бывал у нас. «Очень, невероятно, безумно талантлив, но несчастлив», – говорили о нем все наши знакомые. Почему он несчастлив, я не знаю. Артист он, по-моему, действительно, очень хороший. Я, правда, не очень разбираюсь еще, но я видел его как-то в «Снежной королеве» – он там играл сказочника, «снип-снап-снурре, снурре-базилюре», – мне очень понравилось. И еще я видел «Пятую колонну» – на этот спектакль меня не пускали: «детям до шестнадцати…» – и так далее, сами понимаете, но меня потихоньку пропустила тетя Паша – театральная вахтерша; я забрался на самую верхотуру и оттуда посмотрел весь спектакль. Долинский играл американца-журналиста, а мама – его невесту… нет, не невесту, а возлюбленную… играл он очень здорово, особенно когда он разговаривает с Доротти – это та женщина, которую играла мама. Я не все понял в этой пьесе, но играли они очень хорошо, так что иногда даже плакать хотелось.
Вообще Долинский всегда веселый, очень интересно рассказывает о всяких случаях из своей жизни, а их у него, как говорится, «вагон и маленькая тележка». Говорили, правда, что он много пьет, но у нас он никогда пьяным не был. Один раз как-то я его встретил на набережной, и, по-моему, тогда он был здорово пьяный. Он взял меня под руку, и мы долго ходили с ним по Неве, и он рассказывал мне о том, какая мама у меня хорошая артистка и хороший человек и какой замечательный у меня батя. Мне это было приятно, но я ведь и сам знаю это.
Больше я его пьяным не видал. К нам он всегда приходил веселый и спокойный.
Зимой всегда еще в передней кричал:
– Есть в этом доме чай для старого бродяги? Хорошо бы чайку с морозцу.
И мама сразу убегала готовить чай – для Долинского она как-то по-особенному заваривала его, – мы с папой к чаю довольно равнодушны: папа больше любит черный кофе с лимоном, а мне все равно что пить, лишь бы не молоко. Пока мама готовила чай, Долинский с батей играли в шахматы. Долинский играл неважно и почти всегда проигрывал. Но не огорчался и не стонал, как дядя Юра, а смешно подшучивал над собой. «Такой уж я несчастный уродился: и в игре не везет и в любви не везет», – говорил он и забавно поглядывал на маму. Мама смущалась, а папа смеялся и закуривал свою трубку. А потом мы садились пить чай, и он начинал что-нибудь рассказывать, и всегда так интересно, что, когда меня гнали спать, я ужасно возмущался, и, если это случалось на самом интересном месте, Долинский говорил, что он мне потом доскажет. И между прочим, всегда досказывал: на следующий день или позже, но обязательно доскажет. А иногда он брал гитару и пел, один или с мамой.
Я очень любил, когда он пел старинные русские романсы и особенно этот: «Нет, не тебя так пылко я люблю». Все сидели задумавшись, и у бати гасла трубка, но он не замечал этого. А потом Долинский вдруг резко ударял по струнам и начинал петь что-нибудь вроде «Приятели, смелей разворачивай парус» из старой картины «Остров сокровищ», или одесскую «На Молдаванке музыка играет», но глаза у него оставались грустными.