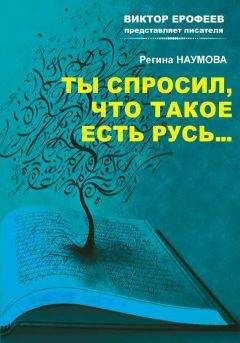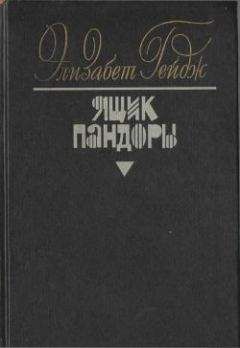– Ты думаешь, я не знала, что ты дежуришь возле дверей… Мне позвонила соседка и сказала… Да, представь себе, и тогда я тебя проверяла.
– Проверяла – отверну я тебе голову или нет? Жаль, что тогда я этого не сделал.
– Можешь сделать это сейчас, – и Пандора, приняв осанистую позу, вызывающе взглянула на него, и во взгляде ее не было ни страха, ни раскаяния, ни любви – голая степь с засохшими ручьями и песчаными, растрескавшимися от зноя проплешинами.
Это была патовая позитура, и Дарий понял, что ничья – это его поражение. Или же Zugzwang, то есть абсолютный пипец-ц-ц, когда любой ходильник ведет к фиаско. Он почувствовал полную раздвоенность, ощущая в себе плющеватую парность: Отелло-Яго, человек-конь, Адам-Ева, Буш-Бен Ладен, Путин-Басаев и, наконец, плюс-минус… Никто из них никогда не в состоянии договориться, поскольку на каждый аргумент одного следует железный контраргумент второго, и так до скончания… или начала нового мира… «Надо сдаваться, – сказал себе Дарий, – но сначала неплохо бы подпустить немного тумана с нотками возможного примирения…»
– Ладно, давай решай – или разбегаемся вот с этого места, – он резко ткнул пальцем в сторону покалеченного временем тротуара, – или все же доковыляем до дому и там все обсудим?
– Я не знаю… Если ты не будешь… Если все как-то… Если мы все же… Ну хорошо, я согласна, но сначала мне надо в туалет…
«Ага, – робко возликовала душа художника, – цитадель-то не так уж и неприступна… Еще один навал – и стены дрогнут…»
– Не буду, я тебя прекрасно понимаю, и если чем-то обидел – прости… Но и ты будь хорошей девочкой, знай, что только сильные отважатся любить тебя, ибо, по правде сказать, ты им в этом не помогаешь.
Но блекотания Дария насчет любви были безвозвратно смазаны литературным или каким-то другим заимствованием. Когда нечего сказать, шпарь цитатами.
Зашли в 00. Затем, не минуя еще две или три забегаловки (где было принято еще 500 гр. «Кампари» и 0,4 л. коньяка), они дошли до остановки маршрутного такси, откуда более или менее благополучно добрались до пункта назначения. А потому «более или менее», что, когда микроавтобус отъехал от остановки, из придорожного дома неожиданно выбежала молодая женщина, на которой были только трусики и браслетик на левой руке, и едва не угодила под колеса… Выскочивший из машины шофер так матерился, так кричал на чудом спасшуюся мамзель, что Дарию пришлось вмешаться. Он тоже вышел и сказал водителю несколько ласковых слов, против которых водитель так же возвел изгородь из крутого, русско-площадного мата. А девица, прижав к голым грудям руки, вскочила в подъехавший «мерседес», который хамски посигналив, удалился в сторону Риги.
Между тем на Сиреневой, куда они прибыли через десять минут, застылыми кубами нагромождались отчужденность и обреченность. Еще пару недель назад радужно глядящий в небо палисадник поник, как будто сопереживая людям, утратил свою бесподобную яркую пестроту, и даже всесильная черная смородина, словно уши побитой собаки, опустила свои листья, а девясил – этот гигант бессмысленного взращивания – спутался, переплелся, превратился в хаотический контекст беды. Скамейка была пуста, окна Медеи – темны, безжизненны, словом, заброшенный дом, в котором завелся призрак убийцы.
Они зашли в дом, и их встретила Найда. Подняв свою девичью мордочку, она вопросительно глядела на людей, да и как не глядеть, если со вчерашнего дня у нее во рту не было ни крошки. Хозяева забыли, увлеченные… Дарий насыпал ей сухого корма, после чего отправился к мольберту. На нем стояла недописанная картина, и он, ощутивший вдруг прилив вдохновения, взялся за плоскую кисть № 4 и стал крупными мазками усугублять сумрак над морем. Пандора же, несмотря на загнанность и трепку нервов (об угрызениях совести и речи нет), начала творить блины, и вскоре до ноздрей Дария донесся их сковороднический душок. Видно, масла не пожалела. Однако крупные поспешные мазки не удовлетворили художника, и он окунул кисть в баночку с ореховым маслом. Снял с мольберта неоконченный этюд и вместо него поставил портрет рыжей бестии, то бишь Конкордии. И, глядя на ее роскошные холмы, почувствовал теплоту и вместе с тем напряжение в пахах и с горечью подумал о предстоящем походе к хирургу. И еще он думал о том, как он стоял в кустах коринки, подкарауливая момент для атаки, и укорял себя за глупость. Чего не видел – того нет… А так – увидел, принял позор и теперь надо платить местью.
Блины были тонкие, сквозь них вполне можно было смотреть на солнечное затмение, и очень переслащенные. И все равно Пандора к ним подала остатки меда и баночку джема, сохранившегося с прошлого года, когда у них еще был достаток и быт протекал, как у нормальных людей. Ели молча, ибо были нагружены алкоголем, и лишь чудом можно было объяснить царившее за столом безмолвное сосуществование. И только когда он брал банку с кофе и нечаянно задел рукой сахарницу и обернул ее, Пандора, сверкнув своими аметистами, отчитала: «Проснись, ты что, не знаешь, что нельзя просыпать сахар… плохая примета…» И он опять свалял дурака: «А с чужими мужиками ебаться можно? Это хорошая примета?» И Пандора, словно проколотый воздушный шарик, лопнула и кинула в него чайной ложкой…
– Ты же обещал…
– И ты обещала быть весталкой, а что я сейчас вижу? – он стер с лица брызги сметаны с вареньем и вышел из-за стола. – Фигня все это, меня ждут Флориан и Снежная королева с Улиткой…
– Иди и подумай, как дальше будем жить.
– Душа в душу, – но, сказав это, Дарий почувствовал, как блины в нем перевернулись жирным комом, и он едва сдержался, чтобы не сблевать.
Когда после горяче-ледяного душа он уходил работать к мошеннику, в коридоре встретилась Медея.
– В среду похороны, – сказала она, и Дарию показалось, что это была речь трезвого человека. – Григориана похоронят рядом с моим Мусиком, я отдала свое место, – прослезилась.
– А где зароют Олигарха?
– Не знаю, этим занимается его бывшая жена… У него есть кому хоронить. Дочери, откуда-то приехал сын… Не мое дело, – однако в голосе Медеи равнодушия к Олигарху не проглядывало.
Дария интересовала Модеста, но, чтобы не сбивать в себе настрой на работу, он обошел эту тему, ибо душевное спокойствие – Эльдорадо, вечно живой маяк, к которому стремятся все мотыльки…
Флориан его встретил косым взглядом и надутыми губами. Впрочем, Дарию наплевать, он, словно зомби, прошествовал мимо главы теневого кабинета и вошел в детскую. Оторвался, изолировался, прикрылся тишиной и независимостью Розы и Улитки. И тверда была его кисть, точны сочные мазки, и ни одного волоска неучтивости к тому, что было перед ним. А время… Ах, это пресловутое время: не успел как следует вникнуть, как на тебе – два ночи… А стена почти готова, что вызвало в нем крутое сожаление: придется уходить из прекрасной сказки в серую, мразную Пандоро-Конкордия-Хуа-но-Омаро Шарифа-Монгола и, возможно, безвременно усопших Григориана-Олигарха, пропившего глаза Легионера, его апатично-невзрачной Лауры и в предосенних небес несносную повседневность… Но, с другой стороны, мудрее всего время, ибо оно раскрывает все. И бутон розы, и кинжал, извлеченный из бархатных ножен, и человеческую подкладку, на которой столько же пятен и дыр, как в цыганской кибитке, съехавшей с колеи в кювет…
С территории Флориана его выпроводил сонный охранник, у которого на боку желтела кожаная кобура с торчащей рукояткой. Флориан с такой охраной всегда был в опасности, хотя сам об этом не догадывался.
Горели фонари, сияли звезды, вдали, в перспективе улицы, белели стволы берез… Мир сонный, но никогда не смыкающий глаз. И, наверное, от того неимоверно усталый, обремененный человеческой глупостью и зараженный этой глупостью, отчего и сам делал гигантские и малые ошибки, начиная от зарождения человеческой клетки и кончая тектоническим разломом, который только тем и занимается, что готовит рождественский сюрприз человечеству…
Пандора была теплая, даже горячая, возможно, приснившийся пожар поднял в ней температуру, и она, попискивая, распустив губы и насупив брови, страдала на той стороне сна. Ему стало жалко, слишком беспомощным и сиротливым было ее мышиное попискивание, и Дарий, взял ее за голову, придвинул к своему плечу. И она моментально отреагировала: закинула на него свою теплую ляжку, чем затруднила его дыхание, но он стерпел и даже еще сильнее прижал ее к себе.
Он долго лежал с открытыми глазами, слушая в наушниках «В парке Чаир распускаются розы…», и с ними уснул, не выключив приемника. И спал щекой на металлическом ободке наушников и, когда проснулся, почувствовал саднящую боль у глаза.
Разбудила его Найда, старающаяся лапкой заскрести то, что еще только должно было из нее выйти… Поднявшись, Дарий сходил в туалет и вернулся с губкой и лентой бумаги, чтобы убрать за кошкой ее колбаски и вынести лоток с ее водичкой.