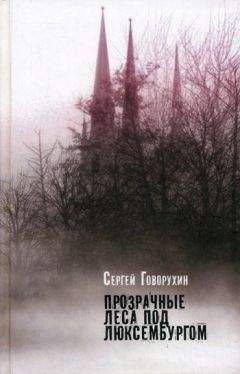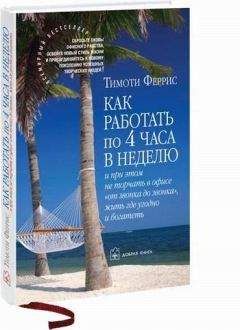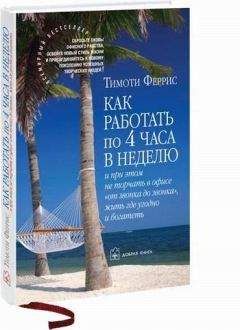В дальнейшем, используя новейшее радиотехническое оборудование, они без труда выходили на закрытую волну десантно-штурмовых групп и в зависимости от обстоятельств принимали решение: вступать в огневой контакт из засады или отвести свои мобильные отряды на заранее подготовленные позиции.
И хотя за все время пути группа Истратова ни разу не вышла в эфир, соблюдая режим полного радиомолчания, они ее вычислили.
За несколько дней до переброски многочисленных подразделений моджахедов из Камсурга в глубь Таджикистана на пути вероятного продвижения противника было оборудовано несколько хорошо замаскированных «секретов» – в сложившейся обстановке, с учетом наличия у российской стороны авиации и дальнобойной артиллерии, «духи» не могли допустить срыва столь долго и тщательно разрабатываемой операции.
Три моджахеда лежали в камнях с ночи. Старший, лет сорока, с черным, дубленым испепеляющим южным солнцем лицом, и двое молодых, больше с юношеским пушком, чем с бородами, суетливых, готовых к любому безрассудству…
Во время афганской войны они были еще детьми, и потому в этой новой схватке с «неверными» им очень хотелось отличиться, покрыть себя неувядаемой славой, и теперь, первым обнаружив группу Истратова, один из них, не дожидаясь решения старшего, непроизвольно потянулся за подсумком, в котором лежали выстрелы к гранатомету, и расстегнул его…
Заметив это движение, старший что-то гортанным шепотом выкрикнул на фарси, замахнулся на молодого рукой и, отодвинув его в сторону, занял позицию среди камней.
Мимо него по узкой горной тропе усталым, сбивчивым шагом шла группа пограничников. Беззвучно пересчитывая людей губами, отмечая про себя количество вооружения, он неожиданно подумал о том, сколько раз, держа палец на спусковом крючке, ему приходилось смотреть в спины русских солдат. Сколько раз приходилось стрелять в эти заведомо обреченные спины, и почти никогда – в лицо…
Сейчас, глядя вслед уходящей группе, понимая, что, скорее всего, именно она вырезала пост у Шурупдары, в нем, как ни странно, не было чувства отмщения. Пятнадцать лет опустошающей военной работы сделали свое – ему больше не хотелось убивать.
И хотя он сознавал, что за него это сделают другие, и Аллах в эти минуты отвернулся от него, он впервые был рад тому, что не примет участия в предстоящей расправе.
И когда последний, замыкающий боец отдалился метров на триста от поста наблюдения, он включил рацию и, выйдя по закрытой связи на базу, устало и отрешенно произнес в эфир:
– «Устод», «Устод», я «Пахловон». Как слышишь меня? Прием.
– «Пахловон», я «Устод». Слышу тебя хорошо. Прием.
– Через меня прошли тридцать «зеленых»[12]. У них тридцать АК, три пулемета Калашникова, четыре РПГ-7[13], двенадцать «мух», три «шмеля»[14]… Идут в вашу сторону. Как понял? Прием…
И все-таки выпить было необходимо.
Левашов постучал в закрытое окошко коммерческой палатки. Окошко отворилось. Из переполненного чрева палатки потянуло теплом, запахом дешевого ликера, однообразными переливами знакомой мелодии.
«Опять “Эммануэль”… – без труда угадал мелодию Левашов. – Вот национальная катастрофа…»
В сумеречном свете возникла одинокая фигура продавщицы.
– Шкалик коньяка и шоколадку, – попросил Левашов. И передумав, добавил: – два шкалика…
На липком картоне, среди груды пивных пробок и использованных чеков, появились два шкалика коньяка с вызывающе косо наклеенными этикетками и не менее сомнительного качества импортная шоколадка.
Левашов положил деньги на прилавок, оглянулся: на город ложился туман. Он спускался с Воробьевых гор на купола Новодевичьевого монастыря, стелился по темной поверхности реки.
Как он будет в тумане? Один, у стылой мертвой реки…
– Может, выпьешь со мной? – спросил он у продавщицы. – А-то на улице как-то…
– Заходи, – вяло предложила она.
Левашов с трудом протиснулся в узкую боковую дверь палатки, сел на пластиковый ящик из-под бутылок.
Продавщица поставила стаканы, Левашов сорвал пробку с бутылки, разлил коньяк.
– Будь здорова.
Выпили. Левашов поморщился, запил стаканом воды.
– Коньяк-то «левый». Травите народ.
– Не пей.
– Не пить, старуха, не получается…
– Тогда пей – не ломайся. Коньяк «левый»… А что сейчас не «левое»?
– Только давай без глобальных обобщений…
– Давай, – засмеялась она.
Левашову стало спокойно и безмятежно. То ли от «левого» коньяка, то ли от ее неожиданной улыбки.
– Тебя как зовут?
– Люда.
– Красивая ты… С такими данными не в коммерческой палатке пропадать…
– А где? На панели? Лет мне скоро сорок… – она протянула стакан. Под вязаными перчатками с обрезанными краями угадывались красивые руки с облезшим маникюром. – Плесни-ка еще…
– Не следишь за собой…
– Для кого?
– Москвичка?
– Из Житомира… Во время войны нас эшелонами в Германию свозили, а сейчас мы сами эшелонами в Москву едем… Пить-то будем?
– Заводная ты.
– Была. Может, еще буду.
– Я закурю?
– Кури. Любую на выбор. – Она провела рукой вдоль целого ряда поштучно разложенных сигарет. – Теперь не у всех даже на пачку сигарет хватает…
– Ты кем была до продавщицы?
– Продавщицей.
Выпили еще. Левашов закурил, расстегнул куртку.
– А я скоро уезжаю, – неожиданно сказал он.
– Далеко?
– Далеко… На войну.
– Убить могут.
– Могут.
– Зачем же едешь?
– Надо.
– Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть!» Кому надо?
– Мне.
Она встала, потянулась во весь свой модельный рост.
– А поедем ко мне. Закрою я эту богадельню…
– Ты бы хоть спросила, как меня зовут.
– Зачем? Утром ни ты меня, ни я тебя не вспомню.
– Зачем же тогда ехать?
– Можно и не ехать, – она покорно села на место. – А зовут тебя Евгений. Я читала твои репортажи из Афганистана…
– Интересовалась?
– Интересовалась… У меня муж погиб там. И брат.
Она разлила остатки коньяка, подняла стакан, приглашая выпить молча, выпила, подошла к Левашову, положила руки на плечи, опустилась перед ним, глядя в глаза, сказала:
– Их в один день убило. Под Гератом. Только в разных местах.
– А дети?
– У-у, – отчаянно помотала головой она. – Ничего не осталось.
Встала, взяла с прилавка сигарету, закурила, снова став такой же спокойно-безучастной, какой была все это время.
– Иди. Тебе пора.
Левашов поднялся, застегнул куртку.
– Тебя не убьют, – тихо сказала она.
Левашов вышел, машинально прошел несколько шагов, остановился, постоял секунду-другую и вернулся к палатке.
– Открой! – требовательно постучал он в окошко.
Люда отворила.
Левашов попробовал засунуть пакет с косметикой в узкий проем окошка – пакет не влезал. Тогда он стал доставать и бросать на прилавок содержимое пакета: помады, тени, лаки, туши…
– Мажься! Красься! – зло говорил, почти кричал он. – Делай, что хочешь, только не сиди в этом дерьме! Ничего еще не кончено! Ничего! И ты, и я – мы еще будем жить долго, счастливо! Будем!
Левашов зашел в телефонную будку, набрал номер. Трубку взял Игорь.
– Привет, Игорь! – произнес Левашов таким тоном, словно они расстались только вчера.
– Привет… Ты, что ли, Левашов?
– Я… Слушай, Игорек, мне бы переговорить с тобой по неотложному делу…
– Переговорить… Ну, подъезжай ко мне завтра на работу. Там и переговорим. Только позвони предварительно.
Левашов понял, что унижаться придется. Ну и черт с ним, унизится – не растает.
– Я вообще-то из автомата звоню, – сказал он. – Автомат в двух шагах от твоего дома. Может, ты уделишь мне десять минут – на большее я не посягну.
– Что-нибудь срочное? – спросил Игорь.
– Да.
– Квартира девятнадцать.
В дверях они даже обнялись.
– Квартиру будешь смотреть? – спросил Игорь.
– А потом ты скажешь, что я не уложился в десять минут…
– Ладно, пошли. Квартира – предмет моей особой гордости.
И они пошли.
Левашов шел за Игорем анфиладами просторных комнат, машинально фиксируя непривычные слуху названия: коммерческий бассейн, душевая кабина, натяжные потолки… Но ни масштабы, ни респектабельность, ни малахитовое обрамление дверных проемов не поразили Левашова – его удивила собственная отрешенность и безучастность к дорогому убранству квартиры и странное, не оставляющее ни на секунду, недоумение: неужели этому можно всерьез посвятить свою жизнь?
– Ну как? – ревностно поинтересовался Игорь, когда осмотр квартиры был завершен и они наконец присели за кухонный стол.
– Другое измерение, – вежливо согласился Левашов.
Игорь достал бутылку виски, плеснул по полстакана, порезал апельсин.
– Давай… Сколько мы с тобой не виделись?
– Года четыре… – неуверенно произнес Левашов.