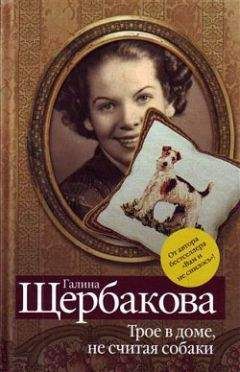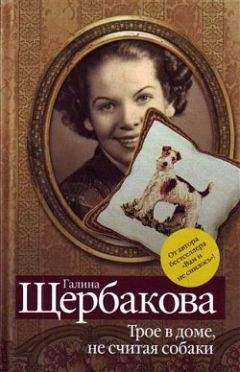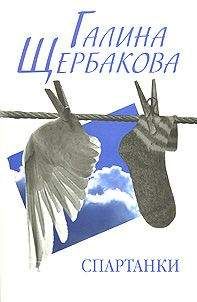– А кто, по-вашему, – кричит он, еще не подойдя к беседке, – лучший поэт мира?
– Пошел ты, – миролюбиво было сказано ему.
– Это принципиальный вопрос, – говорит Лелик, вспрыгивая на беседку.
– В каком-то смысле политический.
Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Есенин прозвучали одновременно исключительно из соображения – пусть скорее отвяжется.
Лелик закинул назад свою седую головенку и сказал, что все они не понимают ни момента, ни ситуации, хотя такие вещи надо знать, так сказать, интуитивно. Это уже было нехорошо с его стороны, так как мужики занимали серьезные партийные должности и им полагалось знать все. Я себе рисую картину, как они мысленно перекрестились, что все назвали покойников, с которыми ничего произойти не могло, они уже вне пересмотра и возможных перемен. Я представляю, как облегченно они выдохнули чуть было не запертый в горле воздух. Выдержав паузу, Лелик прошелся по беседке туда-сюда, скрипя половицами, стал в позу пионера с горном, именно такой стоял на участке там, где была задумана когда-то песочница, но при хозяине детей не развелось, песочницу рассыпали, а пионера с горном передвинули ближе к погребу. До войны, когда ставили главный дом, погреб был в хозяйстве нужнее нужного, он, кстати, остался до сих пор, в нем юные отпрыски детей старых партийцев делают себе героиновый кайф при свете фонарей. Пионер стоит на страже.
Но это будет еще через тридцать-сорок лет, а тогда Лелик шагал по беседке с неким намеком на лице. Страшная вещь – намек – для человека того времени.
А храбрых в той компании не было. Каждый боялся не знать чего-то важного в государственном масштабе, от чего может произойти движение оси жизни и, как объяснял тот же Лелик, тут-то ижица и станет какой. «Кириллица – это, дети мои, кириллица». Кириллицу видели в лицо и в 53-м, и в 56-м, и в 64-м, и в 68-м… И столетие Ленина для многих вышло «какой». Анекдотов развелось, как грязи, песенки типа «нам столетье не преграда». Сурово спрашивали: чему это столетие может не стать преградой? Что такое может быть выше?
Многие сгорели после этого, как свечи.
– Так вот, мужики, поэт всех времен и народов – Лорка, – важно сказал Лелик, слегка раскачиваясь на половице.
Возник ступор. Кто такая Лорка? Почему они о ней ничего не знают? Как ее фамилия? Они не смотрели друг другу в глаза, боясь увидеть, что в другом глазу есть ответ, которого у него самого нет.
Поэт – это медиум
Природы и жизни, —
громко, нараспев произнес Лелик и снял у народа груз с плеч. «Медиум» было не наше слово, его не могло быть в партийной лексике. Это слово было явлением шаманизма и идеализма.
– И как же фамилия твоей Лорки? – спросил завхозотделом райкома партии, который забыл из-за Лелика конечную сумму денег, так ловко высчитанную до явления этого идиота.
– Невежды! – сказал Лелик. – Фредерик Гарсиа Лорка.
И тут завкадрами большого партийного издательства легко так, чуть-чуть, толкнул Лелика под дых, чтоб знал, дурак, природу вещей и жизни не через медиумов.
Половица под Леликом треснула, за ней треснула другая, и Лелик канул в подполье беседки под общий хохот освобожденного от страха перед неизвестным народа.
Высоты там было на копейку, не больше метра. Но Лелик падал на пень старой сосны, трухлявый пень, несерьезный, но суковатый. Опять двуличие слова, и опять связано с сосной. Надо мне это приметить и быть с ней осторожной. Ничего ведь зря не выскакивает.
Лелик сломал позвоночник; костистый, без всякого мускула, он хрястнул так, что не оставалось сомнений в будущем Лелика. Он немножко пожил паралитиком, а потом умер тихо-тихо, как муха на зиму.
Уже на следующее лето комната с кроватью стояла пустая, потому что ходили слухи, что Лелика видели в окне, и вообще соседи слышали, как ночами бегает сервировочный столик, поэтому, хотя дачу предлагали исключительно материалистам, на всякий случай от нее отказывались. Тем более что хорошенькая Люська после смерти мужа стала как-то чернеть лицом и нажила себе рак. И хоть не померла от него, но все равно все ждали. Мне досталась эта история уже в изложении, а главное, в злости, что пропадает площадь, забитая досками. Поменявшийся со временем контингент уже ничего не боялся. Он смеялся над дураками, которые не знали Лорку. Они его уже знали. Они были циники, и слава богу, циник, на мой взгляд, исторически прогрессивней труса.
Дети циников осторожненько, без шума вытащили стекло на террасе, отогнули доску и стали навещать заветную квартиру и заветную кровать.
Надо сказать, что раньше, при Лелике, я эту кровать не видела. Хотя была много раз звана посмотреть. Но это было начало моей жизни в стране спецучастка, когда я всей кожей ненавидела всадника без головы, а с ним и все остальное: его хозяина, их предметы.
Пришлось мне увидеть кровать при плохих обстоятельствах, совсем плохих. Это уже самое начало восьмидесятых.
Значит, юное поколение лазает в окошко и скрипит кроватью. У меня двенадцатилетняя дочь (ровно столько, сколько сейчас моей внучке), и моя главная задача – не упустить момент, когда ей тоже захочется посмотреть, что там. Но ее подружки еще вовсю играют в куклы, так что бог нас пока милует.
Хотя есть одна девочка. Она отличается от всех каким-то потусторонним взглядом. Она ходит, как бы видя что-то другое, это «другое» ей мило, поэтому на ее лице время от времени возникает странноватая улыбка тайного греха. Дети этого не видят. Матери настораживаются. Девочка может сидеть долго и неподвижно, чуть раздвинув колени, со слегка приоткрытым ртом, она не идиотка, ни боже мой, она даже отличница в спецшколе. Откуда нам было знать, что в девочке быстро и неукротимо рос порок, и он ей доставлял наслаждение своим возникновением. Сейчас бы написали – раннее сексуальное развитие. Делов-то! Однажды дочь по секрету сказала мне, что Машка лазает в окошко в ту квартиру.
– Они там пьют пиво, – сказала мне дочь.
Мне казалось правильным предупредить мать девочки, тем более что приезжала она только на выходные. Но женщина эта была неуловима. И только потом я узнала, что весь уик-энд она пила, запершись в крошечной комнатке, отделенной от той спальни тонкой стенкой.
Но кто-то из мам, более решительных, чем я, сказал ей все-таки, что Маша ведет себя не очень…
– Ты за своей смотри, ясно? – ответила мать. И женщина, Валя Крылова, машинистка одного из журналов, прибежала ко мне, потрясенная не смыслом ответа, а этим «ты», которое ударило Валю наотмашь, так как она вообразить себе не могла такого хамства. В их редакции сохранялся высокий бонтон, там «выкали» даже уборщицам входящие в высокие инстанции начальники, и Валя признавалась мне, что дорожит из-за этого местом, потому что для многих «машинистки – не люди». Я еле-еле успокоила Валю, придумав, что хамство – это иногда смущение, а иногда и растерянность, главное, что мать знает, ее предупредили.
Та осень была очень теплой. И мы ездили на дачу в выходные почти до ноября. Ходили с охапками желтых листьев, которых было особенно много в том месте, в котором я нахожусь в данный момент. На кромке кровати Молотова, а, по сути, в баяне времени.
Тогда, в начале восьмидесятых, здесь еще был лес, дачи, в которой я живу сейчас, еще не было, на ее месте стояла огромная соснища, жутковатая своими лапами, похожими на расставивших сети хищников. Последний раз мы приехали в великий праздник того времени, жарили шашлыки, жгли костры, потому что было уже холодновато. Доска на террасу того дома была отодвинута, туда шныряли подростки, мне показалось, что я видела в окне Машу.
Всех раздражал пьяный в дупель сторож, который был напоен нами же, пока переходил от одной компании к другой. Уже когда мы уезжали, он махал нам руками – идиот идиотом, – и штаны у него были расстегнуты и приспущены. Но все знали его жену-продавщицу, которая найдет его, побьет и закроет ему ширинку.
На следующее лето мы приехали поздно. Участок уже жил своей жизнью, мелькали новые лица. Обновление контингента шло безостановочно. Подружки дочери все были на месте, пришла и Маша. Она очень выросла и невероятно располнела. Мы, мамы, обменялись мнениями, что это гормональное, связанное с менструациями. Это была главная тема.
Однажды весь участок вскочил от диких воплей. Не могли сообразить, где и кто. Но в конце концов все сбежались к заколоченной спальне. Крики шли оттуда. Мужчины сорвали доски и первыми вбежали в комнату, кто-то из них грохнул кулаком по стеклу и крикнул: «Звоните в „Скорую“! А сюда идите женщины».
Это бездарно, что я оказалась там первой. На кровати Молотова вопила, крутясь на спине, Машка, а из нее текла вода, моча и кровь.
– Она рожает, – тихо сказал кто-то из женщин позади меня. – Ее надо раздеть.
У меня, стоявшей ближе всего, ничего не получалось. Мокрые чулки будто въелись ей в кожу, рейтузы прилипли, а она к тому же дрыгалась, не давая себя трогать. Я вспомнила где-то читанное, что всякая нормальная женщина должна уметь принять роды. Я была всякая, но, видимо, я не была нормальная. Кто-то принес ножницы, Машка завопила еще пуще, но ей все-таки разрезали пояс с чулками и рейтузы и даже стащили их, но тут, к счастью, приехала «Скорая». Мы все вышли, я споткнулась о подносик на колесиках, ухватилась за спинку кровати, за то самое слово из трех букв, которое сейчас тут, рядом со мною.