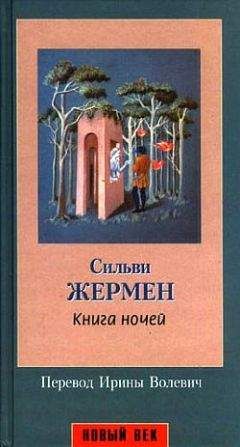Непредвиденное обстоятельство звалось Джейсоном. Это был тридцатилетний американец с глазами цвета барвинка. То, чем он занимался в жизни, была сама жизнь. Он покинул свою страну лет десять назад, и все это время колесил по Европе. Он любил города, старинные города с узкими улочками, с церквями, населенными святыми из мрамора и ангелами из позолоченного дерева, с большими чайными салонами в бархате и зеркалах, где ему нравилось сидеть часами, читая или разглядывая людей. Читал он не переставая, и его память была необъятна; он запоминал все прочитанное. Но запоминал таким образом, что его память напоминала скорее не библиотеку, а просторный вольер или большую оранжерею, ибо сразу по прочтении слова текстов начинали в нем разрастаться, превращаясь в образы, звуки, движения. Тексты в нем обретали жизнь — странную жизнь, целиком умственную, напряженную, хотя малость чудаковатую. И на людей он смотрел так же, как и на книги — проницательно, упорно и немного сумасбродно.
Впрочем, как раз в кафе Баладина его и встретила. В Страсбурге, где он был проездом. Но он в любом месте был проездом, даже в собственном теле, где, казалось, частенько отсутствовал — самым поразительным образом. Первое, что Баладина заметила в нем, были его руки — с очень светлой кожей, с длинными и тонкими, немного нервными пальцами. Необычайно гибкие и красивые руки. Малейший из его жестов был отмечен волнующим изяществом, или, точнее, хрупкостью, потому что было в его руках что-то хрупкое, неуловимо трепетное, беспокойное. Он скорее задевал вещи, нежели притрагивался к ним, скорее ласкал, нежели брал в руки. И Баладина тотчас же вспомнила маленькую Несу, единственного человека из всех, кого она знала до сих пор, наделенного таким же даром жеста.
Она перевела свой взгляд от рук незнакомца на его лицо, и стала изучать, не скрывая любопытства, поскольку смотрела на отражение в большом зеркале напротив, незаметно для него. Он читал. Баладина забавы ради попыталась расшифровать название книги в его руках, так как слова в зеркале отражались наоборот. «The Heart Is a Lonely Hunter».[29] Но ее взгляд был так упорен, что она в конце концов привлекла внимание мужчины, чье отражение рассматривала. Он поднял голову от книги и в свой черед посмотрел на Баладину. Их взгляды встретились в зеркале. Она покраснела, оттого что так попалась со своим любопытством, и тотчас же перевела взгляд в другой угол кафе. Но он сказал весело и немного протяжно из-за своего акцента: «Я здесь!» А она, не успев подумать, спросила: «Где здесь?» В зеркале, в зале, или в книге? В тот момент она не смогла бы сказать наверняка, настолько иностранец с хрупкими руками показался ей сном. Спокойным и красивым, просвечивающим сквозь зеркало сном, который нескоро разгадаешь.
Этот сон она превратила в свою любовь. А любовь — в свою жизнь. Сразу же. Случилось это в понедельник. В следующее воскресенье она покинула Страсбург и поехала к Джейсону в Гренобль, где он решил пожить некоторое — неопределенное, поскольку никогда его не мерил, — время. Его экскурсия по городам заканчивалась, он в них во всех побывал, от Дублина до Ленинграда, от Стокгольма до Сиракуз, от Лиссабона до Стамбула. Теперь его влекли к себе горы. Собственно, это к ним, к горам, он все время был на пути. Он и по Европе-то странствовал лишь затем, чтобы подольше покружить возле них, ярче представить, сильнее желать — ибо он был из тех людей, которые обретают лишь мечтая, достигают лишь убегая — и любят только в ожидании. Страсбург был его последним привалом. Трехдневным привалом; с Баладиной он встретился утром первого дня. Она показала ему город.
Выйдя из кафе, она повела его по старым улочкам к кафедральному собору. Тот возвышался в конце переулка, великолепный и необычный, розовокаменный, мягко освещенный холодноватым светом того утра. Они медленно обошли по кругу порталы и остановились лицом к южному, чтобы полюбоваться двумя тимпанами со сценами из жития Богородицы. Справа — «Возложение венца», слева — «Успение». «Успение?» — переспросил Джейсон заинтригованно, не поняв смысла произнесенного Баладиной слова. Но и после разъяснения нашел его столь странным, что рассмеялся. «Это довольно нелепо, — сказал он, — но и очень красиво. Вы, католики, you are rather cracked![30] Успение, a pretty crazy word, really…»[31] Потом снова стал изучать скульптуру, внимательно рассматривая необычайный хоровод лиц, склонившихся над телом Пресвятой Девы. Лица странным образом походили друг на друга в своем горе, с устремленными куда-то вдаль взглядами — в даль неизреченного вопроса. И стоящий среди них, в центре дуги, Христос, тоже склонял свое кроткое лицо к усопшей Богородице. Тем не менее, она вовсе не выглядела умершей; ее тело под восхитительными складками одежд казалось еще столь полным жизни, словно она была готова восстать и пуститься в пляс, а лицо выражало царственное спокойствие. Она спала, и ее тело трепетало во сне. Нет, ложе, на котором она покоилась, не было смертным одром, напротив, оно напоминало ложе молодой роженицы. А впрочем, и дитя было здесь. Стоящее на левой руке Христа. Ибо Христос прижимал к своему сердцу собственное детство, бессмертное и вместе с тем бесконечно уязвимое. И в лице ребенка отражалась великая безмятежность лика Богоматери. «А so pretty crazy word», — вновь повторил Джейсон как во сне, потом, повернувшись к Баладине, добавил: «Но ведь красота всегда чуточку безумен, разве нет?» — «Конечно, — согласилась она, смеясь над его ошибкой, — красота столь же безумен, как удар молнии прекрасна». Но она не дала ему времени на понимание и неожиданно увлекла за собой внутрь собора, воскликнув: «Скорее, скорее, поторопимся, большие часы сейчас пробьют полдень, по полной программе!»
Полдень, действительно, подступил к астрономическим часам, которые вдруг привели в движение весь свой фантастический временной бестиарий. Ангел с молотом и ангел с песочными часами, смерть, бьющая в колокол костью и большой петух, хлопающий крыльями с пронзительным криком, все они оркестровали шествие вереницы апостолов, проходящих лицом к благословляющему их Христу. Но тут была лишь драматическая мизансцена человеческого времени, вся в хождениях туда-сюда, в грохоте, в переходах и превращениях, как об этом свидетельствовали четыре поры жизни, семенящие перед смертью. На других этажах часов совершало свое бесстрастное и затейливое движение время звезд, затмений, лунных и солнечных циклов, совершенно безразличное к этому слишком суетливому и вечно чем-то обеспокоенному людскому времени. Там шум, спешка и страдания, тут простая и спокойная игра стрелок, невозмутимо описывающих абстрактный ход чистого времени. Джейсон задумчиво спросил себя, по какому из всех этих календарей могло бы быть отмерено странное время Успения Богородицы. Но Баладина оторвала его от туманных раздумий, шутливо показав нишу в нижнем ярусе часов, где двигалась колесница планетарного божества, царящего над сегодняшним днем. «Сегодня понедельник, день Дианы, луны». Ее глаза и мысли занимало только человеческое время, это чудесное время, изумительное своими встречами и желанием, сюрпризами любви. Понедельник, первый день недели, первый день Джейсона. Джейсона, ставшего для нее — сразу же и навсегда — первым днем ее юности. Ее настоящей, наконец-то обретенной юности. Джейсон, понедельник — день ее радости.
Понедельник, первый день Джейсона, первая ночь отдавшихся друг другу тел. Ночью шел дождь. Медленный, безостановочно струившийся по стене, по ставням с шорохом, похожим на тихое шушуканье молодых женщин. Нежный лепет текущей воды, тонкий, легкий шелест смятых простыней, где без конца скользили — одно к другому, одно в другом — тела любовников. Кожа, льнущая к коже. Руки и губы, льнущие к коже. Неутомим дождь. Ненасытна кожа. Все упоительней касаться, ощупывать, ощущать. Они заворачивались друг в друга, плыли друг в друге, в полутьме простыней, в бормотании дождя. В запахе кожи. Так тесно сплетались в объятиях, что уже не различали, где чье тело. В их поцелуях была сладость дождя. В устах — глубина ночи.
Утром Баладина вышла на балкон. Он весь был залит необычайно чистой водой, искрящейся в ясности занимавшегося дня. Искрящейся, словно металл, словно ее собственное лицо, отраженное в этой дождевой луже. Она склонилась к своему отражению в воде, к этому столь новому образу самой себя: ее глаза блестели, как два камешка в ручье, а губы пылали, как стекло. И вдруг она закричала: «Есть красота на земле!» Она выкрикивала это в порыве сумасшедшего счастья, стоя совершенно нагая на краю гостиничного балкона, над крышами города, где люди еще спали. Речь не шла о ее собственной красоте, но о другой, снизошедшей на нее и ослепившей. О красоте быть совершенно оторванной от самой себя, похищенной другим, обращенной к другому. И ее блестевшие в воде глаза были гораздо больше, чем просто ее глаза, это были глаза, смотревшие на него. Глаза совершенно без ума от другого. Глаза, ставшие устами, во взгляде которых было лишь желание и наслаждение; глаза, ставшие устами, в которых слились взгляд и поцелуй. Уста глубокие, как ночь, шире, чем день.