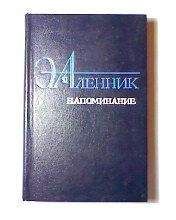Готовлюсь сорваться в очередь за пальто».
«…В этом месяце в прошлом году, вскоре после прибытия на Ленинградский фронт, я ночью взошел на холм и увидел реку огня с запада до самого Ленинграда: это горели наши деревни, дачные поселки и дворцы. Сейчас местонахождение фашистов можно определить „по зареву от их горящих складов и техники. Немцы выдыхаются, а мы крепнем“.»
«…Радуют известия о наступлении на Сталинградском фронте и события в Африке и Италии. Скорей бы весна и форсированный Ла-Манш. Время мое проходит очень быстро, не жизнь, а кинокартина с приключениями.
Ты спрашиваешь, как добраться до меня? Очень просто: прийти на вокзал, когда после войны я приеду за тобой в Ташкент. А пока — ко мне не добраться при всем желании почти никому. Если долго не будет писем, не волнуйся. Путь их труден и сложен. Но как я жду твоих…»
«…Получил от тебя поздравительное письмо как раз, когда поднял „бокал“. Выпил за нашу встречу. Хочу верить, как и ты, что Новый, сорок третий, будет годом конца войны, кончины гитлеризма.
Я по-прежнему нахожусь в совершенно мирных и культурных условиях. Положение наше стабилизировалось. Поэтому так долго и неаккуратно идут письма.
Зима установилась теплая. Больше 15° мороза не было.
Победы на других фронтах радостны. Спасибо Левушке за подробный их анализ и прогноз на будущее, со!ласно шахматной теории. От себя добавлю: похоже все-таки, что Гитлер не сдастся заблаговременно, а будет играть, пока не получит мат. Поздравляю Левушку с выпуском прибора».
«…На днях был ерундовый двадцатиминутный обстрел, и в нем погиб один мой знакомый инженер. Он был со мной почти с начала войны, вышел невредимым из самых жестоких боев — и вот исчез после небольшого обстрела. Именно „исчез“. Был крупный, остроумный, добродушный, многие к нему тянулись — и нет его, и ничего не изменилось. Сердце ожесточается».
«…Из маминого письма понимаю, что папа работает совсем уж не щадя себя. Это очень огорчает. Понимаю, что в Ташкенте жить нелегко, а тебе особенно. Но победы последних месяцев вселяют радость и надежду, что терпеть осталось недолго.
Я все на том же месте. Не беспокойся: раньше в боях мне приходилось менять место и должность каждый час.
Теперь я выполняю только свои обязанности».
«…Вчера вечером я имел счастье на полном ходу, сидя в кабине грузовика, налететь на подводу. Она, т. е. подвода, как известно, передвигается без огней, а наши фары светили всего на два метра вперед. Подвода везла спички. Ее перевернуло и отбросило. Я подошел к возчику, так как он очень охал и ахал. На мои участливые вопросы он ответил вопросом: „Целы ли спички?“ — и сразу начал собирать коробки. Лошадка не охала. Она упала и, подумав, встала. В общем, возчик и лошадка благополучно уехали. А машина оказалась слабее — разбился радиатор. Пришлось оставить шофера у покалеченной машины и продолжать путь пешком.
Эти маленькие приключения разнообразят жизнь, она у меня удивительно механична. Ощущаю себя выключенной из чувств и мыслей крупицей военной машины.
Дошел до того, что, видя трупы, смотрю на них, как на деревья, камни, ландшафт».
«…У нас установилась чудесная погода: легкий морозец, легкий снежок. Походить бы с тобой, как — помнишь? — в славное институтское время. Но мы еще походим. В воздухе реет победа. Наступающий 44-й ее принесет. Начинается долгожданное оживление. Я буду вне опасности, но очень-очень занят. Если некоторое время не смогу писать — не вздумай волноваться. Все будет хорошо».
«…Знаешь, самое страшное за эти годы — не фронговое. Я заброшен в Ленинград на сутки. Иду по улице Восстания после обстрела дальнобойными. В фасаде дома дыра в полтора этажа. Снарядом вырвало живот и грудь кариатиды, но античная голова гордо держится.
А из закрытой парадной по ступенькам ручейком стекает кровь».
Он добавил:
«Одно из двух: или больше не будет войны, или ничего не будет — дырки не останется на том месте, где вертится волчком Земля».
После этого — перерыв до двадцать третьего января сорок четвертого года.
«…Ты уже знаешь из газет о том, что совершилось.
Немцы вместо победы скапутились на нашем участке фронта. Я реже был участником, чем зрителем. Правда, зрелище было далеко не безопасное, как в цирке, если укротитель зверей сказал бы: „Л сейчас я их убью“ — и убрал бы решетку. Но в нашем случае звери не успели даже шевельнуться. И все это под музыку гробовой дроби оркестра войны. В самый „интересный“ момент я решил обменяться мнениями с военным другом с более отдаленного КП. Он отвечал мне кратко, удивленным голосом, а сам, после многих моих вопросов, задал только один вопрос:
— Ты жив?!
Меня очень смутило его лестное предположение, что я могу позвонить по телефону с того света.
Несколько дней у нас уже спокойно и тихо, как полагается в глубоком тылу».
Из письма от 30 января:
«…Я был свидетелем салюта в честь полного освобождения Ленинграда от блокады. Подумай только: я смотрел с крыши ленинградского дома. Фейерверки цветных ракет летели с огромной высоты на невский лед, разноцветно его освещали. Казалось, само небо усыпает наш лед цветами. Было светло, как днем. Залпы батарей доходили перекатами. Итак, война превратилась в праздник Победы».
Последующие письма были поисками способа наискорейшей встречи. Выяснилось, что приехать в Ташкент Сане не удастся, ему легче выхлопотать вызов Нине.
Она вернулась в Ленинград третьего сентября сорок четвертого года.
Саня ее даже не встретил. Встретило его письмо, несколько ромашек и еда на столе, и плитка сбереженного ненашего шоколада.
К тому времени Александр Коржин был отозван из армии на свою студию для экстренной съемки в Кронштадте военно-учебного фильма. Вот строки из оставленного на столе письма:
«…Эти чертовы съемки, по-моему, запоздалые! Ты тащила с вокзала вещи одна. Вошла одна в пустую квартиру с выбитыми стеклами. Но ты вошла. И послезавтра я войду, что уже сверхневероятно после столь долгого пребывания в слоеном пироге с немцами спереди и сзади.
Нам невероятно повезло. И вот — не мог встретить, не вижу тебя, говорю с тобой на бумаге…»
Многоопытные люди из тех, кто думать умеет, говорят, что в переходе от жизни к смерти бывает маленькая пауза, маленькая задержка-гочечка для осознания своего конца. Конечно, если заблаговременно не потеряно сознание. Эта пауза-точечка бывает то просветленной, то озлобленной; то примиренной, покорной, то в ней собран протест сжатой, взрывчатой последней силы.
Такая точечка бывает и в переходе от смерти к жизни.
Вернее, от долгого ощущения неминуемой смерти — к ощущению и осознанию, что ты выжил и будешь жить.
У младшего Коржина осознание этого перехода затянулось и молчаливо разрослось.
Внешне оно проявлялось в том, что умытый на ночь Саня подходил к шкафу, доставал бутылку водки с надетым поверх пробки большим тонким стаканом, наполнял этот стакан до краев и выпивал, ничем не закусывая, и только после этого ложился спать.
Нина молчала, но, должно быть, смотрела на мужа так, что он с трудом, нарушая какое-то заветное, мужское молчание, объяснял ей небольшими порциями:
«Это пройдет. Это как дурная привычка к люминалу».
«Когда мы долго стояли в Старом Петергофе, начинался день — нас было пятьсот пятьдесят. Кончался день — нас было тридцать три. Ночью подходили катера с подкреплением. Утром нас было пятьсот. К вечеру — двадцать семь. Или… семь. Чтобы заснуть, мы пили водку».
«Понимаешь, если тебя забрызгивал мозг твоих друзей, — трудно примириться с тем, что ты почему-то жив».
У Коржина-старшего не раз бывали переходы от настигающей смерти к жизни. Были — начиная с гражданской войны, когда дважды вели его из госпиталя на расстрел. Были, если помните, такие переходы и позже. Ну, например, при встрече «догхтора Хирурика» с ферганскими бандитами.
И, конечно, всякий раз не могло не быть паузы-точечки для осознания перехода из ощущаемого уже холодка и тьмы того света — на этот светлый свет. Но у А. П. Коржина точечки — кругленькой, изолированной от действия и поступка — не получалось. Она тотчас обретала движение, вытягивалась и втягивалась в его дело, в русло его дня или часа.
А сейчас, в осенний день сорок четвертого года, когда сидит он в мягком вагоне везущего его в Минск поезда, с вызовом-приглашением правительства «…своими знаниями, опытом, талантом содействовать восстановлению медицинского образования и лечебного дела в Белоруссии», у А. П. Коржина есть дорожное время для этой паузы, для осознания перехода от смерти к жизни — своего, всей страны… А Варенькиного? Разве не чудо, что она сидит в мягком купе, у окна, всего-навсего через столик от него?