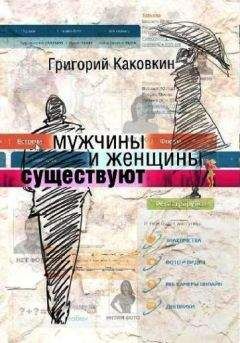— Кажется. Нас, кажется, заставляли. В седьмом или восьмом классе.
— Письма и газеты сюда приносят?
— Нет, — ответил Аркадий, не понимая, почему сейчас она его об этом спрашивает. — Наш почтовый ящик внизу, просто мама хочет, чтобы все оставалось, как было.
— Раппопорт, нагнись, я тебя поцелую.
Аркадий нагнулся, Тулупова его поцеловала в щеку, сказав:
— Это была репетиция. Надо же привыкать. С наступающим Новым годом!
— И я тебя очень прошу — никакого сайта, мы познакомились в кино. Случайно. Ей так понятней, но она деликатная — об этом не спросит.
Аркадий открыл дверь и крикнул в глубь темного коридора:
— Ма! Мы пришли.
— Да, иду, — звонко ответил неожиданно молодой женский голос, и откуда-то сбоку вышла аккуратная, прибранная, с подведенными тушью глазами женщина.
— Это моя мама, Анна Шоломовна, — представил невысокую бойкую старушку сын.
— Можно Шломовна, так проще. Можно Соломоновна, это все равно. Евреи не носятся со своими именами, как с писаной торбой. Беня — Борис. Хава — Ева.
Сара — Соня, — на одном дыхании выпалила она. — Что с того? Лишь бы вам было удобно. Нас и так узнают. А там, на небесах, нас встретят не по именам…
— Мила, — представилась Тулупова и почувствовала себя маленькой девочкой, которая только сейчас научилась бойко произносить свое имя.
— Мила, значит, Мила, — сказала мать Аркадия. — Хорошее имя.
Она вдруг подумала, что у нее никогда в жизни не было такого ритуала — знакомство с родителями. Свекровь ворвалась в их дом в Червонопартизанске — теперь она даже не могла четко вспомнить, как это было. Стобур просто сказал: “вот” и рукой указал матери на нее. Она постояла минуту, как отлитый в каком-то неведомом крепком, молодом материале предмет, и они ушли, оставив родителей договариваться о свадьбе и деньгах.
Аркадий провел Людмилу по трехкомнатной квартире, в которой не было ни одной новой вещи, кроме монитора и компьютера на массивном столе с зеленым сукном. Даже холодильник был старый, с округлыми формами. Помпезная люстра под потолком, диван с мягкой спинкой, полочкой наверху и откидывающимися валиками, красивые широкие стулья, круглый стол под цветной скатертью с бахромой, часы с маятником, высокий буфет в большой комнате — все было пятидесятых-шестидесятых годов и слегка облезло и потерлось.
Свое впечатление Тулупова донесла просто, заодно попробовав для произношения имя и отчество:
— У вас очень необычно, Анна Шломовна.
Произносилось легко.
К чаю все было готово. Варенье, обжаренные хлебцы, сливочное масло, коробка с конфетами, где не хватало двух штук, и тонкие чашки с блюдцами, их мелкий рисунок инстинктивно хотелось рассмотреть, но почему-то сделать это Тулуповой было неудобно, она сдержалась.
— Вы посмотрите, Мила, какой рисунок у этих чашек! Это настоящие китайские чашки, их подарили Моисею, когда его выбрали в Академию. Где они их достали — я не знаю, наверное, это был грабеж, потому что так их никто не отдал бы.
— Они их купили в антикварном магазине, на Октябрьской, — холодно вставил Аркадий.
— В комиссионном, — поправила мать.
— В комиссионном, — согласился Аркадий.
И Тулупова почувствовала, как им хорошо вдвоем вот так незлобно спорить вечерами о пустяках, хотя было ясно, они обо всем уже переговорили. Ей тут же захотелось как-то в этом поучаствовать, и она спросила:
— А где это?
— Там его уже нет, — ответил Аркадий.
— А что там? — задала вопрос мама.
— Обувной.
— Сегодня обувных столько, будто все стали сороконожки… — сказала Анна Шломовна.
Возникла пауза, и потом мать спросила:
— Мила, вы не еврейка?
— Нет.
— Совсем “нет” или немножко есть? — с некоторой надеждой переспросила она.
— Совсем нет.
— А похожи. Я скажу вам крамольную мысль — все хорошие русские люди похожи на евреев.
— Русские думают наоборот: все хорошие евреи похожи на русских, — переиначил крамольную мысль Раппопорт.
— Не знаю. Моя фамилия Тулупова. В детстве я думала, что я потомок князей Тулуповых, которых Иван Грозный убил. Из Украины я, из шахтерской семьи. Отец шахтер.
— Стахановец, — мама иногда отказывалась думать и превращалась в частотный словарь, показывающий наиболее частые сочетания слов.
— Почему обязательно стахановец? — сказал Аркадий, который не любил эту ее бессмысленную манеру.
— А кто? — спросила мать. — Ударник коммунистического труда?
— Да. Он был ударником коммунистического труда, — сказала Тулупова.
— Вот видишь, — сказала Анна Шломовна сыну, как будто не глядя стреляла и попала в цель.
— О чем мы говорим? — сказал Аркадий. — Я не понимаю.
— Мы знакомимся, — сказала старушка. — А как мы должны знакомиться?
— Никак, — сказал Аркадий.
— Мила, что у нас будет на столе на Новый год — что вы любите, вы придете с детьми?
— Мои дети уже взрослые, их не возьмешь с собой, мы вместе уже Новый год не встречаем.
— Но вы их пригласите, а то они обидятся.
— Обязательно, — сказала Тулупова.
Ей было странно, что разговор складывается так легко. Анна Раппопорт вспомнила старый анекдот, когда из деревни в Москву приезжала родственница, а потом своим деревенским рассказывает: “…они там в Москве живут очень ужасно, даже сыр с плесенью едят”, и заговорили о еде. О том, кто что любит. Анна Шломовна интересовалась, что предпочитают Людмилины дети, вспоминала, как растила малоежку Аркадия, что любил и не любил привередливый, державшийся всю свою жизнь одного нехитрого меню муж Моисей. Она сказала, что готовила его блюда с закрытыми глазами все тридцать пять лет их совместной жизни и все новое он начисто отвергал.
— Это все надо знать! Женщины, прожившие с одним мужчиной всю жизнь,
как я, — заключенные, получившие пожизненный срок и приспособившиеся к лагерным условиям. Раньше про нас, верных жен, сочиняли романы, а теперь никто и говорить не станет. Кому интересно, что любил мой Моисей на завтрак?! Мила, вы сколько лет прожили со своим мужем?
— Мама! — пытался остановить Аркадий.
— А что?! Не говорите, не надо, если военная тайна…
— Два года, — сказала Тулупова.
— Это было, наверное, короткое счастье?
— Нет. У меня не было этого счастья знать, что любит мой муж на завтрак, Анна Шломовна.
Вдруг захотелось сказать прямо, как чувствовала и как думала, когда терла, мыла, стирала у себя в маленькой квартирке:
— Мое счастье — только дети. Дети и все.
— Что ж, это грустно, Мила, — ответила старушка. — Но будем считать, что у вас еще все впереди, — и сразу подвела черту под всеми разговорами о новогоднем столе: — Главное, чтобы у нас была ель. Живая!
— Да, обязательно живая! Как всегда, каждый год, — подхватил Аркадий. — Это такой запах в доме!
Вскоре Анна Шломовна Раппопорт засобиралась, оделась в легкую светлую дубленку, надела цветастый платок, а поверх него аккуратный норковый берет и вышла, оставив Людмилу с сыном наедине.
— Я приду через час-полтора. Не прощаюсь. Мне в аптеку надо — Аркадий стесняется покупать лекарства по моим льготным рецептам…
Хлопнула входная дверь, два раза повернулся ключ в замке.
Аркадий тут же, словно подкошенный внезапным сном ребенок, повалился на Людмилу Тулупову — не произнося слов, не вздыхая, боясь шевельнуть руками. Его тело, большое и несуразное, почти как у любого мужчины за сорок, падало в сидящую на диване женщину, точно специально с наклоном подпиленная сосна. Оно сваливалось на колени, требуя тепла, ласки, ответа, но траектория была выбрана неверно, и он падал весь, сразу, как храм Христа Спасителя при большевистском взрыве. У Аркадия Раппопорта, даже не у него, а у его тела, было одно желание — пролезть в нее, переодеться в ее кожу и уснуть, согретым ее кровью, дыханием и женским, жарким теплом.
— Аркадий, ты так пристаешь?
Все его тело зашевелилось в глубоком “да”.
Такого Тулупова не испытывала никогда. Свободный еврейский ум был совсем неопытным мальчиком. Она развернула его на себя, повернула голову, словно у пластмассовой куклы, и положила на свою грудь.
— Полежи, мой любимый, нежный, успокойся. Лежи.
Аркадий замер.
Людмила медленно гладила его седеющие волосы и смотрела на потолок с лепниной, на старинную люстру, на круглый стол со скатертью, на обои и вообще на всю почти нетронутую современным предметом академическую обстановку и думала о том, что ее зовут жить в музей, под той самой мраморной плитой, которую сняли с фасада и занесли в дом. Нечто прямоугольное, завернутое в тряпку и перевязанное толстой веревкой, она видела прислоненным сбоку при входе. Ей нравился этот музей неизвестного ей человека, ученого и доброго семьянина. Похоже на библиотеку, даже запахи схожи, но жить здесь было и заманчиво и невозможно. Она чувствовала, что теперешнего главного жителя этого дома, безмолвно возлежащего у нее на груди, и его замечательную еврейскую маму надо будет полюбить по-настоящему, без подделок, как она, наверное, еще никогда не любила и, наверное, уже не сможет. Она стала думать о том, почему не любят евреев, да, они высокомерные, у них в заднем кармане на все свое мнение, но они такие лапочки, такие дети…