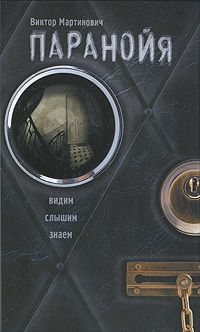А машина–то, дружок, уже выехала, выехала к твоему телефону–автомату, и отпечатки снимут, и пробы с трубочки, которой ты ушком касался, возьмут. Чего Же ему надо?
— Нам сегодня опять звонила тетя Алия, — перешел он к делу и даже ритм речи стал другим — быстрым и сбивчивым, и Анатолий включился и слушал, слушал. — Так вот, тетя Алия просила тебе передать, чтобы ты срочно вылетал к ней в Нью–Йорк. Ты понял, Ванечка? В Нью–Йорк. Ближайшим самолетом. Дяде Тазику стало совсем плохо. Рейс через три часа. Пропустишь — дядя Тазик умрет, и всем нам будет очень грустно.
Анатолий бросил трубку, не дожидаясь, пока голос договорит. Он запретил себе думать об этом. Не думать. Не думать! Зачем ему уезжать? Он не может уехать. Извини, Серый, не может. И запретит себе думать о том, почему все вокруг — от следователя до бывшего друга — просят его слинять из страны.
От дома до филармонии было двадцать минут ходу — глупо брать машину, как бы привлекательно ее вздыбленные ноздри ни выглядывали из–под сугроба. И опять этот мысленный укол: черт его знает, где он будет встречать рассвет, при таких–то планах на вечер, а потому пусть лучше его фрау сверкает своими ноздрями в свете этого домашнего фонаря, сделавшегося за годы как будто предметом квартирной обстановки. Снег, валивший, когда из–за окон еще что–то брезжило, сейчас прекратился, сказочные сугробы ждали выезда сказочных карет, выкрашенные в черный цвет ажурные ограды парка напоминали о тех временах, когда общество было еще спасительно классовым, а парки тщательно защищались от тех горожан, которые сейчас в них уютно, рассыпавшись шарфом по снегу и зацепившись ногой о ногу, спали.
По правую сторону улочки, через чрезмерную арку, выпадавшую в центр города, он насчитал восемнадцать припаркованных и заметенных снегом автомобилей и никак не мог вспомнить, значит ли это, что она жива, или то, что ее уже нет: он опять забыл, что загадал о чете и нечете до того, как начал считать. Смерть ее представлялась теперь ему каким–то страшным чувством внутри — тишиной неспокойного рода. Он говорил «она мертва», и ничего не происходило, но потом откуда–то именно снизу поднималось ледяное небытие, знаменовавшее его собственную смерть, которая тоже ведь когда–нибудь наступит. Ему казалось, это единственный способ понять, где она сейчас, а если ее нет — представить, что и его тоже нет, и страшнее всего в эту игру было играть ночью, лежа, когда что открытые, что закрытые глаза сообщали одну и ту же безразличную ко всему мглу, и он не был уверен, что не умер.
Выйдя на проспект, Анатолий на секунду замер, ошалело крутя головой по сторонам: все было в праздничных огнях и гирляндах, все сверкало водопадами огней, люди готовились праздновать что–то декабрьское, но все эти торжества сейчас, конечно, отменят до тех пор, когда его Елизавета не найдется. Вдев голову в поднятый воротник пальто, он неприветливо зашагал, чувствуя, как и в нем неуместной волной, случайным воспоминанием о детской елке, поднимается какая–то праздничность, и он даже сопротивлялся ей, пока не почувствовал, что в самом искреннем веселье без Лизы есть нотка грусти, как в елочной игрушке, подаренной давно уехавшим человеком, которого еще любишь так, что лучше бы ее нечаянно разбить. Толпа текла вперед — галдящая, хмельная, поющая, обтекая высившиеся среди нее, словно скалы в пенных водах, ровные фигуры в черном, расставленные через семьдесят его шагов, а это означало, что Дэн был прав, прав.
Одеты стоявшие были по–разному — у кого длинное пальто, у кого — толстая спортивная куртка, одни были в кепках, другие — в меховых шапках, третьи — с непокрытыми головами, объединяло их лишь одно — черный цвет одежды, да высокий рост, да полная неподвижность. Нет, конечно, слишком многое их объединяло и выделяло из толпы, а не только что–то одно. Наушник на вьющемся проводке, уходивший из уха куда–то за спину, короткие стрижки, выражения лиц, утолщения слева на груди (неужели и эти с «пушками»?), взгляд, которым они профессионально осматривали всех идущих, взгляд глаз, в которые лучше не смотреть, не поднимать голову, но он поднял и посмотрел, и длилось это всего долю секунды, но «черный» отреагировал моментально, вычленив какую–то настораживающую особенность в смотрении Анатолия, и поднял рукав, и напряженно заговорил что–то своему запястью. Если его сейчас арестуют… Нет, его не будут задерживать, пока ведь не за что, он — обычный фриканутый горожанин, которых полно накануне ваших праздников, но следующий из оцепления встретил его уже поворотом головы и пристальным взглядом — лучше всего было бы, пожалуй, свернуть, выпить где–нибудь кофе и пройти сюда еще раз, когда этот их охотничий треморок поуймется, но время, время! Он очень боялся, что после того, как к филармонии подъедет кортеж Муравьева, вход в зал будет закрыт даже для тех, чьи билеты не аннулированы.
В толпе кто–то пробежал, пьяный, горячий, ошалевший, со всей очевидностью представляющий опасность только для самого себя и собственного носа на раскатанном льду тротуара. Но его уже засекли. За ним уже бежали. Искра нервозности проскочила по цепи, и об Анатолии, кажется, позабыли. Площадка перед филармонией была взята в двойное кольцо, а проспект перекрыт вовсе. Очень он правильно сделал, что пошел пешком. Для того, чтобы пройти через оцепление, нужно было только показать этим людям билет, а, кстати, где его билет, — и снова слишком яростно он принялся выворачивать карманы и шарить по брюкам — его снова заприметили, и уже отделилось несколько особенно черных силуэтов, и направились к нему, когда билет обнаружился в том кармане, с которого он начинал искать, и он показал им его, слегка уже примятый, и выдал такую жалкую, с перепугу, улыбку, что двое отступили обратно в свой круг. Любитель классической музыки. Типичный, во всей своей психопатологической красе. Плечо, голове над которым он протянул билетик, отползло в сторону, как и в случае с дверью в прокуратуре — лишь на столько, чтобы он мог протиснуться бочком: видно было некое общее правило пропуска обычных граждан куда бы то ни было, и заключалось оно в том, что ходить нужно — бочком.
Ему удалось пройти метров пятьдесят вообще без досмотра, и он врезался в толпу, скопившуюся на ступенях у входа. Лица над черными плечами здесь уже встречали его кривыми улыбками, видно, он, долговязый, худощавый и нервный, стал–таки у них поводом для насмешек. Как называли его эти рослые бритые скалы? Да и умеют ли они шутить? А здесь нужно было вынуть из карманов все металлические предметы и шагнуть во врата, молясь об их безмолвии. Металлодетектор ничего не заметил. Хорошо. Очень хорошо.
«Номер, место», — спросил у него мужчина, принимавший всех прошедших контроль, и, услышав ответ Анатолия, кивнул ему на нужный вход и кивнул стоящему у этого входа, чтобы тот проследил, что Анатолий войдет именно туда. Тот, когда Анатолий подошел к нему на расстояние удара кулака, выдал, глядя прямо перед собой (в какой для него раз?): «С мест не вставать, попыток уйти не предпринимать. Когда все закончится, выпустят».
Некоторое еще время Анатолий занимался исключительно тем, что отыскивал цифры на рядах сидений и следил за тем, чтобы они совпали, наконец, с номером, указанным на билете, и пытался при этом выглядеть не очень лунатично, потому что за ним следили глаза отовсюду, — стоило ему два раза сходить из одного конца ряда в другой, рядом оказался очень вежливый мужчина в черном, указавший ему, куда нужно сесть. Мужчина этот дошел до конца ряда и встал у места, где ряд выливался в проход, и — для Анатолия это было неожиданностью — такие же мужчины, вежливые и в черном, стояли вообще у каждого ряда, и их было очень, очень много. Он разрешил себе еще два взгляда по сторонам — направо, на бельэтаж (людей с винтовками видно не было, но они там, без всякого сомнения, имелись), и назад, к выходу. Последний взгляд сообщил ему, что от его ряда до дверей, пройдя которые, ему не видать уже никакого Муравьева, — всего десять метров, а потому нужно очень тщательно выбрать момент «застревания» в людской толпе. «Рядовой», то есть стороживший ряд товарищ, наверняка поторопит его, если он выйдет из межрядового пространства в проход в тот момент, когда нужной сутолоки еще не будет.
Все эти нюансы нужно было держать в голове, а в голове было лишь — как тебе нравятся эти бордовые плюшевые сиденья, Лиза? Ты не находишь, что они как будто сделаны из шкур убитых детских медведей? И, он уже научился отвечать за нее, — ответная шутка о том, с каких именно мест у освежеванных медведей произведен забор плюша, и его расползающаяся сокровенная улыбка на этот счет. Обводя глазами редкие ряды сидевших рядом обычных ценителей музыки, он отметил обилие черного цвета — многие были во фрачных костюмах, так что со спины все выглядели охранниками Муравьева, и только необыкновенная тщедушность выдавала в отдельном черном силуэте фрачную торжественность, а не угрозу униформы. Были дамы, одетые в вечерние платья, обнажавшие увядшие плечи, и только особое напряжение шеи да ровная спина указывали на прошлых красавиц. Рядом муж жаловался жене на испорченный вечер, но шепотком, шепотком, да глазами — по сторонам, чтобы не направить не дай бог раструб ладони, прикрывающей рот, в опасную сторону. Медленным шагом, даже тут попадая в ногу, к пустующим четырем рядам в центре направились две шеренги мужчин. Эти были в свитерах, костюмах подчеркнуто легкомысленных цветов, рубашках без рукавов, имевших задачу скрыть тот черный цвет, который у каждого — родимым пятном на затылке. Их задача — обеспечить картинку обычных ликующих горожан, окружающих министра, в том случае, если Муравьев вдруг махнет телекамере прямо из зала. Став каждый напротив своего места, они сели синхронно, видно, получив команду.