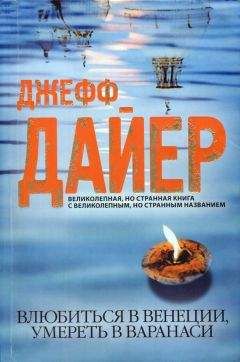Я неуверенно поднялся на ноги, как новорожденный птенец. Остальные туристы исчезли. Я был один на дальнем берегу Ганга.
Я проверил, на месте ли лодочник — он был на месте, — и немножко прогулялся, глядя через реку на Варанаси. И тогда ощущение, что я совершил ошибку, приехав сюда, постепенно уступило место обратному. Теперь я был рад, что приехал: это напомнило мне о том, что раз уж жизнь — там, на другой стороне, в Варанаси, в миру — это все, что у тебя есть, то единственное настоящее преступление, единственная ошибка — не жить ее в полную силу. Посмертие или вечность только что открылись мне в своем реальном виде — в виде мусора. Никому не нужного и не имеющего никакой ценности. То были последствия самой жизни — то, что остается, когда истекает твой срок.
На Харишчандра-гхате происходило какое-то действо. Пятеро барабанщиков выбивали лихорадочный ритм. Какие-то деды отрывались в свое удовольствие. Это были не то танцы, не то драка — что-то среднее между «битвами бомжей»[171] и фестивалем ветеранов трансдвижения, давно и напрочь изувечивших свой мозг. Успокаивала их музыка или, наоборот, заводила? Было не понять. Они то скакали кругом, периодически кидаясь на землю, то вдруг без всякой видимой причины бросались друг на друга, и все это превращалось в потасовку. Каких-то явных группировок или альянсов здесь не было — если же они и возникали, то менялись слишком быстро, чтобы сторонний наблюдатель мог за ними уследить, но в какой-то момент один из участников неизменно старался инициировать перемирие, и тогда вольная борьба легко превращалась в объятия. Человек, который еще пару минут назад был в пылу драки, теперь вовсю вращался, словно исполняя танец живота, и ласкал невидимый фаллос, якобы в состоянии невероятной эрекции. Потом опять начиналась музыка, и все шло по новой. Или же музыка прекращалась, и все шло по новой. Те, кто только что пытался сбить накал страстей, сами начинали новый раунд буйства. Чем дольше я на это смотрел, тем труднее становилось выявить хоть какой-то порядок или схему или понять, кто здесь за кого. Это было что-то вроде побоища, все время грозившего выйти из-под контроля, но однако не перетекающего в хаос. Всем его участникам явно было очень весело.
Я засобирался домой, но, чтобы вернуться в «Вид на Ганг», мне нужно было обойти толпу. В этот момент на меня налетел один из них, и я импульсивно отшвырнул его обратно, в мешанину тел, но инцидент этот, похоже, никого не взволновал. Вблизи барабанный бой стал мощным, гипнотическим. Я немного покивал в такт и незаметно начал танцевать. Через пару минут в меня врезался кто-то еще, и сам я тоже в кого-то влетел. Я не то чтобы совсем дал себе волю и старался избегать особо буйных, но на самом деле изнутри все эти наскоки и закрутки были куда менее опасными, чем это выглядело со стороны для окружающих. Это был просто танцпол под открытым небом, правда, расположенный, всего в десяти ярдах — немыслимо близко по нашим западным меркам — от того места, где своим чередом шли похороны.
Вскоре после путешествия на другой берег Ганга я сделал и еще кое-что из того, что давно хотел сделать: отправился в храм на Кедар-гхате. За время моего пребывания в Варанаси светло-голубые полосы выцвели до белых, какими они мне сперва и показались. Помню, как в первый день это напомнило мне порядком обветшалый морской курорт. Кедар, со своими бело-розовыми ступеньками и вертикальными полосами, был эпицентром этого впечатления, словно его архитекторы вдохновлялись образами полосатых маркиз и шезлонгов. Впрочем, в этом предположении не было ничего сверхъестественного. Индуизм мог бы легко подписаться под той мыслью, что Шива однажды провел небольшой уик-энд в Брайтоне — длиной примерно в десять тысяч лет — задолго до появления там модзов[172] и рокеров, когда даже самые скромные отельчики типа «бед-энд-брекфест» были размером с Павильон[173].
Крышу храма обрамляли изваяния богов, яркие и веселые, как садовые гномы. Солнце безжалостно обрушивалось на бело-розовые ступеньки. Это был, пожалуй, самый жаркий день в году — настоящее пекло. В сравнении с тем, как жарко тут будет через два месяца, когда станет невыносимо жарко, сейчас было вообще не жарко, но прохлады это не прибавляло. Я поднялся по бело-розовым ступенькам к бело-розовым полоскам храма, где горизонтальное становилось вертикальным, разулся и вошел внутрь. Тьма мерцала свечами. Уже просто оказаться тут, подальше от солнца, было приятно. Звонили колокола. Мои глаза постепенно привыкли к темноте. Стены были расписаны тем же лилово-синим, что и ступени снаружи — до того, как они выцвели. Тот же синий был разбрызган по мощенному плиткой полу в духе полотен Поллока[174]. Рядом имелось несколько желтых колонн. Бело-зеленый кафель на стенах был бы весьма уместен на какой-нибудь старой молочной ферме.
Храм был посвящен Шиве — и сам он был тут, в золотом уборе, всесиний и всемогущий, — но это не означало, что в нем не найдется места прочим богам и их супругам. Все они тоже были здесь; все разные, все одинаковые, все — одно. Один за всех, и все за одного. Я обошел храм по часовой стрелке. В задней его части, в чем-то вроде тюремной камеры, сидел святой муж со спутанной гривой белых волос и бороды и что-то невнятно бормотал, приглядывая за маленьким огоньком, словно это была хрупкая птичка, которую нужно вернуть к жизни. Он был полностью сосредоточен на пламени и на произносимых им словах. Они звучали не как заклинание, а скорее как его останки, словно он едва мог припомнить слова, заведшие его разум туда, где он сейчас благополучно пребывал, и бессильные вернуть его обратно. Впрочем, у него и не было желания никуда возвращаться. Он бормотал, словно во сне, словно бодрствующее состояние было одной из форм сна, и только те, кто спал глубоко, могли пробудиться к сновидению жизни. Не ведающий о моем присутствии — как, подозреваю, и о своем собственном, — он чувствовал бы себя вполне комфортно и в психушке, и в храме. Он коротал свой век у себя в камере, которая, разумеется, не была никакой камерой — не более, чем вся остальная Вселенная. Запертый в ореховой скорлупке властелин бесконечного пространства. Жалко, что «Гамлета» не перевели на санскрит, хотя, скорее всего, тогдашние читатели в лице брахманов шестнадцатого века отвергли бы его «Быть иль не быть?» как полный нонсенс, на том основании, что бытие и небытие суть одно и то же, что небытие есть высшая форма бытия, а само бытие есть иллюзия.
Со мной поздоровался мальчишка и спросил, откуда я.
— С Марса, — ответил я, улыбаясь, и пошел дальше.
Я хотел побыть один, но и эта идея не имела никакого смысла. Зачем быть одному, если можно дать ему денег, чтобы он рассказал мне то, что я и так давно знаю? Откуда-то сверху в храм проникал сноп пыльного солнечного света и ложился на стену, высвечивая санскритское изречение. Мальчишка указал на луч, который указывал на священный текст, словно палец читающего по слогам человека, медленно ползущий по странице трудной книги. Я тоже не стоял на месте; мальчишка тащился рядом и чуть впереди, как бы намекая, что это он меня водит по храму. Он называл имена всевозможных богов, втиснутых в маленькие ниши вдоль стен; многие статуи были покрыты свежим слоем киновари или обвиты гирляндами цветов. Белый Вишну из мрамора и серый Вишну из камня обитали по соседству, в усыпанных лепестками святилищах. Трехглазый Ганеша мандаринового цвета жил на улице, в залитой солнцем внешней нише.
Цветы тут были повсюду, в том числе и у меня на шее. В отличие от храма Дурги, пахли они так, как им и полагалось — это был аромат настоящих цветов. Вернувшись внутрь, я дал двадцать рупий старику, который их сюда принес и к которому меня подвел мальчишка — тот, что в один прекрасный день займет его место или уже занял с полвека назад. Все в Индии становилось куда проще, если у тебя была при себе мелочь. Воздух был насыщен запахом цветов и еще более густым запахом благовоний. В храм заходило все больше людей, а вокруг звонило все больше колоколов. Было нереально шумно, как в ночном клубе — изначальный побег от самсары[175]. Мальчишка все еще торчал рядом. Губы его шевелились, но я не слышал ни слова. (Может, так оно и было для глухих? Все равно что попасть в звуковой ураган?) Я дал ему пять рупий, и он оставил меня в покое. Было невозможно разобрать, когда перестает трезвонить один колокол и вступает другой. Если попытаться описать производимый ими шум одним-единственным словом, то это будет слово «гвалт». Да, перезвон колоколов сливался в один сплошной гвалт. И в сердце этого гвалта бил барабан, делая его глубже и сильнее, акцентируя его ритм. В глубине храма, в святая святых, жилистый жрец в белых дхоти[176] размахивал канделябром, вычерчивая в воздухе узоры из огня. По стенам метались и кружились тени. Колокола гремели еще громче, чем раньше, словно источник звука находился у меня в голове. Но, видимо, и это было еще недостаточно громко. Чем громче они звучали, тем больше народу стремилось в них позвонить. Верующие выстроились в два ряда, словно кто-то готов был сорваться с цепи — буйвол? бог? богобуйвол? — и, вырвавшись из мешанины тьмы и пламени, умчаться в немыслимый солнечный свет. Но нет, никто ниоткуда не выскочил; вместо этого нас самих запустили в святилище. Колокола оглушали. А основной грохот, как теперь стало ясно, исходил от механического барабана, который все бил, и бил, и бил. Бум! Бум! Бум! Колокола вконец обезумели, свихнулись, посходили с ума. В святилище, расположенном в самой глубине храма, люди лезли друг на друга, чтобы дотянуться до лингама — глыбы бурого камня, обвитой гирляндами желтых и оранжевых цветов. Рядом снова возник мой самозванный гид и знаками показал, что я должен принести свою гирлянду в дар лингаму. Больше на меня никто не обращал внимания. Все жаждали только одного — дотянуться до лингама, потрогать его. Я бесцеремонно швырнул гирлянду на кучу цветов. От этого жеста, этой лишенной веры пуджи ничего не изменилось, но ощущение, что я нахожусь в самом эпицентре чего-то, было поистине неодолимым, да я и не пытался его стряхнуть. Барабан продолжал греметь. Бум! Бум! Бум! Колокола были расплавленным хаосом гвалта. И среди этого многоголосого рева, среди трезвона и гудения бессчетного числа колоколов обретал форму еще один звук: круглый, сверкающий, растущий, золотой. Аум.