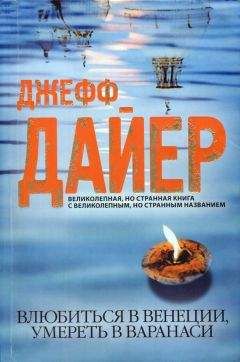Если и был за все время моего пребывания в Варанаси один эпизод, который мне хотелось бы запечатлеть на пленку, так это случай с обезьяной и солнечными очками. Хотел бы я над ним поразмышлять и проанализировать его получше. Я сидел на террасе, совсем один, и читал даррелловский экземпляр «Индийских дневников» Гинзберга («Влюбленных женщин» я все-таки бросил). Мои солнечные очки лежали на столе вместе с остатками супа и чая, которые я заказал себе на ланч. Я оправился после расстройства желудка и снова перешел с банановой диеты на нормальное питание. Вдруг о железную кровлю крыши за моей спиной что-то грохнулось, и на мой столик приземлилась обезьяна. Я испуганно отпрянул. Чашка с чаем упала на пол и разбилась. Не зная, что бы ей схватить, обезьяна в итоге выбрала очки и, перемахнув через стену, упрыгала с ними в сторону храма.
Радуясь, что меня не пришибли, не покусали и не поцарапали, я подошел к стене, через которую перескочила воровка. Она сидела чуть поодаль, держа в обеих руках очки. На мгновение мне показалось, что она хочет их примерить, но нет, она просто сидела там, сжимая совершенно бесполезные для нее — но не для меня: у них были линзы с диоптриями! — стеклышки. Мы смотрели друг на друга. Обезьяна взяла их одной лапой и помахала ими в мою сторону. Я подумал, что, возможно, в ее голове сейчас родится мысль более сложная, чем все, что когда-либо приходили ей в голову. Она утащила очки инстинктивно, потому что они блестели и лежали на виду. Но она их не украла, как сейчас стало ясно нам обоим: она взяла их в заложники. Бесполезные как вещь, они, однако же, обладали определенной меновой ценностью. Я сделал жест, характерный для статуи Будды: пальцы вверх, ладонь наружу — жест рассеяния страха.
— Подожди, — сказал я ей. — Один момент.
Обезьяна никак не отреагировала. Я попятился назад, в крытую часть террасы, где на подносе с фруктами лежали три банана. Я сунул два из них в задний карман и вернулся к стене, держа в руках третий. Одной рукой я протянул обезьяне банан, готовый тут же его бросить, если она вдруг кинется ко мне. Вторую же я по-прежнему держал возле груди, в мудре, изгоняющей страх. Обезьяна смотрела на мои очки. Медленно и не спуская с нее глаз, я положил банан на разделявший нас участок стены. После чего поднял обе руки, чтобы она могла их видеть — открытые, ладонями к ней. Она не двигалась. Она просто сидела там с каменной физиономией, или правда ничего не замечая — так, с виду было не понять. Я полез в карман, вытащил второй банан и положил его рядом с первым. И снова отступил назад с поднятыми вверх руками. Обезьяна глянула куда-то в сторону и отмахнулась моими очками от назойливой мухи. Потом покачала головой, хотя этот жест мог и не иметь никакого отношения к моему второму подношению.
— Ты все-таки хочешь пойти до конца? — пробормотал я. — Что ж, я больше не бегаю по сортирам, так что ради бога.
Я вытащил последний банан и присовокупил его к остальным, так что получилась целая гроздь. Глядя на обезьяну, я повернулся так, чтобы она увидела, что никаких других бананов у меня в кармане больше нет.
— Это мое последнее предложение, — сказал я ей. — Хочешь соглашайся, хочешь нет.
Все еще не опуская рук — правда, теперь я скрестил их на груди, надеясь, что этот универсальный, межвидовый жест конца и финала должен быть понятен всем, — я сделал шаг назад. Если предложение не будет принято и переговоры провалились, я не буду забирать бананы. Теперь это было делом чести. Мяч был у команды противника. Я хотел получить назад свои очки — разумеется, я хотел получить их назад, — но, с другой стороны, я сознавал все историческое значение этой встречи. В плане эволюции целого вида шаг, который намеревалась предпринять обезьяна — по крайней мере, я на это надеялся, — был сравним с прыжком Нила Армстронга из лунного модуля на пыльную поверхность ночного светила.
— Теперь все зависит от тебя, — сказал я обезьяне. — Все очень просто. Ты можешь оставить очки и взять бананы — и таким образом вступить на путь развития. Или схватить бананы и дать деру, прихватив с собой очки. Но если ты так поступишь, то до конца своих дней пребудешь жалкой шимпанзе. И еще. Если ты это сделаешь, клянусь, я тебя выслежу. Как собака. Так что давай выбирай.
Пока я все это высказывал, мои руки постепенно опускались. И теперь они спокойно висели по швам, как у опытного бандита… или человекообразной обезьяны. Тем временем моя визави чуть шевельнулась. После чего перегнулась через стену и схватила бананы, быстро, но аккуратно. Уронив при этом — намеренно или случайно, я так и не понял, — мои очки обратно на стол.
События в Варанаси нередко обладали какой-то симметрией. Эпизод с обезьяной и очками все еще крутился у меня в голове на следующее утро, когда я вышел позавтракать на террасе. Даррелл был уже там с тарелкой овсянки.
— Как дела, Даррелл-джи?
— Малость не в своей тарелке. Ночью мне приснилось, что на меня напал кенгуру.
— Какой ужас.
— Да уж. Причем это единственный сон, который мне здесь приснился, или единственный, который я помню. И запомнил я его лишь потому, что он такой нелепый и ни с чем не связанный. Тут за день встречаешь больше животных, чем в Нью-Йорке за год. Тут тебе и зоопарк, и городская ферма. Когда идешь вдоль гхатов — это настоящее сафари.
— Тем не менее кенгуру ты тут точно не встретишь.
— Вот и я про то же. Если бы их совсем не извели, я бы не удивился, встретив здесь тигра. Но с чего это на меня во сне напал кенгуру?
Я покачал головой. Не знаю, как насчет кенгуру, но про отсутствие снов он это точно подметил. Варанаси к ним вообще не располагал. Что удивительно. Казалось бы, все, что встречаешь здесь за день — а это едва ли вписывается в нормальный порядок вещей, — должно легко проникать в дикую круговерть подсознания с минимумом редакторской правки или вообще без нее. Но нет же. Ты закрываешь глаза и спишь без всяких снов, а поскольку тебе ничего не снится, то ты вроде как и не спишь.
— Я тут как-то вздремнул днем, и проспал довольно долго, — сказал я. — А когда открыл глаза, это было не похоже на пробуждение. Это было как начало новой жизни. Пока мои глаза были закрыты, я не жил. Я мог быть тем же стулом, на котором сидел, или плиткой на полу, или фундаментом отеля, или даже грязью, землей, на которой он стоит.
— По крайней мере, на тебя не напал кенгуру.
— Да, конечно. Но, возможно, индуизму пора открыться миру и задружиться с той же Австралией. Бог-кенгуру мог быть стать по-настоящему популярным. А в сумке у него сидел бы Гануна и поглядывал наружу.
— А кто такой Гагуна?
— Гануна — это все, что не есть что-то еще. Но также и то, что есть все остальное.
— Гануна?!
— Ну да. Ницше провозгласил приход сверхчеловека, а я — приход Гануны. В кенгурячьей сумке.
Понятия не имею, откуда взялась эта идея Гануны. В контексте разговора о нападении кенгуру было бы уместней и логичней поведать историю о моих вчерашних переговорах с обезьяной по поводу захвата собственности, но вместо этого я выдал бредовую придумку про Гануну. Я никогда раньше не слышал это имя и ни о чем таком не думал, пока вдруг не озвучил его, а точнее, пока оно само не прозвучало. Но теперь, когда я это сделал, Гануна стал фактом. Он стал реальностью. Он стал Гануной.
В непальском храме неподалеку от Мир-гхата под самым обрезом деревянной крыши был деревянный фриз, украшенный эротической резьбой. Фигуры были округлые, двусмысленные, сплошь в изгибах. Иногда было вообще не понять, что там происходит, а иногда все было предельно ясно: женщина гладит член мужчины, пока он ласкает ее груди. Или мужчина трахает ее сзади, но так, что одна из ее ног задрана почти вертикально, как у балерины, которую мучает растяжкой строгий педагог. Или его член погружен ей в рот. Я знал про знаменитые эротические барельефы Каджурахо, но как-то не ожидал встретить такое тут. Это было сродни видениям утраченного мира, о котором у меня сохранились лишь смутные воспоминания: мира желания, разделенной страсти. Глядя на них, я ощущал печальное удовлетворение, своеобразную ностальгию по месту, куда я уже больше не вернусь.
После обеда я лежал на кровати и думал о сексе. Ну или пытался думать. У меня никогда не было фантазий, одни воспоминания, которые при необходимости слегка подправлялись и приукрашивались. Но мои воспоминания о сексе стали какими-то странно бесплотными. Не без некоторого чувства вины я думал о Лал, о том, какой могла бы быть на ощупь ее кожа под моими ладонями, но не мог сделать этот образ достаточно осязаемым, чтобы почувствовать возбуждение. Мой член оставался мягким. У меня уже много недель не случалось эрекции. Возможно, я постепенно утрачивал эту способность. Я попробовал помастурбировать, но никак не мог сосредоточиться. Виды Варанаси и гхаты теснились в моей голове, заслоняя все остальное. В каком-то смысле это было облегчение — освободиться от мук сексуального желания, однако само его отсутствие уже было в чем-то мукой. А что, если желание ушло и уже никогда не появится?