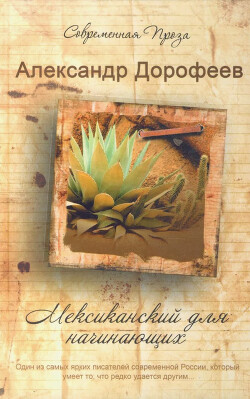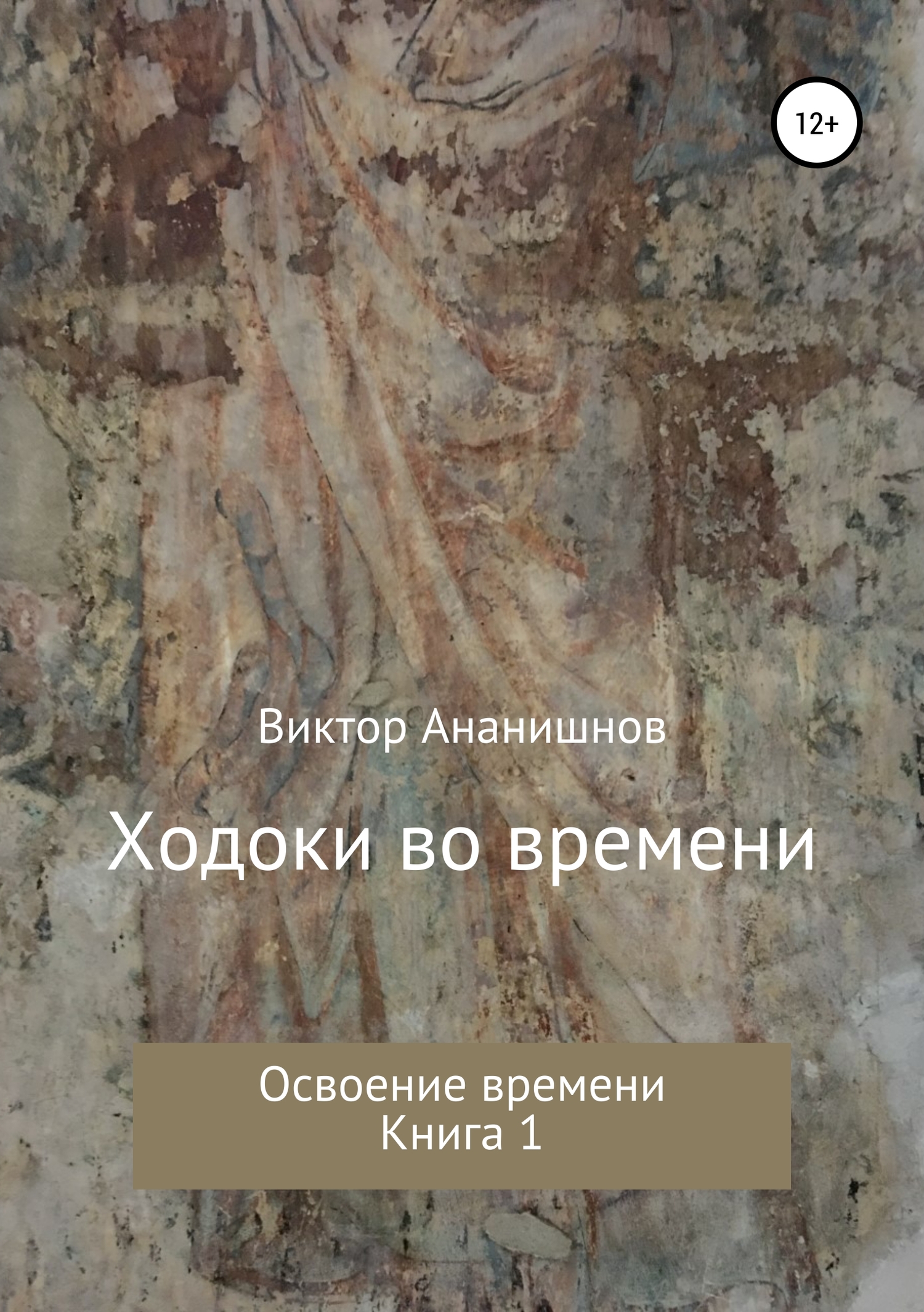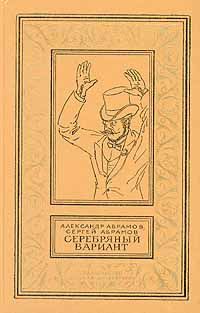– Почему «Моржовый»? – спрашивали посетители.
– А почему бы и нет? – вежливо улыбался хозяин – гостеприимный мулат с преобладающей негроидностью.
На испанском звучало красиво – «Ресторанте де ла Морса». Повсюду торчали желтоватые моржовые клыки и свисали якутские талисманы, которые человек несведущий мог принять за индейские. А в затемненном водоеме, куда то и дело подкладывали глыбы искусственного льда, сидел скромный настоящий морж, совершенно закомплексованный на чужбине.
Здесь принято было фотографироваться в обнимку с моржом и хозяином – в черных с позолотой сомбреро.
Получив карточки, туристы долго разбирались, кто есть кто. Изредка догадывались по выражению лица – у хозяина было угодливей.
Его звали Херардо. Он обязательно подходил к каждому столу, знакомился, давал мудрые советы относительно выбора блюд, загара, купаний и в заключение говорил, как по Гаврилиной листовке:
– Все мы братья и сестры! Пожмем друг другу руки! Обращайтесь ко мне по любому делу и зовите коротко – Хер.
Русские специально приезжали на остров поприветствовать хозяина:
– Как дела, Хер Моржовый? Комо эстас?
– Бьен! Муй бьен![28] – неизменно кивал он негроидной головой, напоминавшей и моржа, и хер моржовый.
Сидя на веранде, зависшей над волнами, Васька следил за продавцами морских товаров. Неужели ни разу не упадут? Но не падали, что шло вразрез с физическими законами.
Они путешествовали по океану стоя. На плоских узких досках, нагруженных кучами раковин, кораллов, сушеных звезд и ежей. Доски были едва заметны, и странно смотрелись средь волнистых пространств эти по-хароновски безразличные к своему грузу, почти нагие люди в шляпах.
Казалось, бредут по воде, аки посуху, опираясь на длинные шесты. Как огромные водомерки, возникали они там и сям. Их беззвучное перемещение завораживало. Хотя изредка они трубили в раковины. И все были невероятно схожи меж собой, как морские близнецы, как волны, как раковины, в которые трубили.
Правда, один резко отличался. Черный костюм с галстуком, портфель подмышкой. А вместо товара – баба с мальчонкой на корме.
Васька глазам не верил – да, это Гаврила с верным семейством!
Отдав хозяину швартовы, дружески обнявшись, он поднялся на веранду и, завидев Ваську, облегченно вздохнул:
– Так и знал, что ты здесь! Остров-то большой, но где ж тебе еще быть?
В черном костюме Гаврила смотрелся внушительно, как народоволец с бомбой. Он присел и огляделся – нет ли слежки?
– Порядок, брат! Да здравствует Пангея! Но рожа у тебя, признаюсь, – дрянь! Припудри носик.
– Лучше рюмку, – сказал Васька хрипло.
– Дело хозяйское, – пожал Гаврила плечами, – но пудра здоровей. Алкоголь, как известно, разрушает печень, почки, селезенку, мозг и потенцию. А пудра, брат, только носовую перегородку, нервную систему и левое полушарие. Чувствуешь разницу? Конечно, и в цене есть, но здоровье дороже!
Подошла молчаливая Хозефина с Гаврилой Вторым.
– Они голодные, как барракуды, – подмигнул Первый. – Закажи чего-нибудь в счет будущей сделки.
Проворный Хер Моржовый подскочил к столу и записал на листочке множество пожеланий.
Гаврила грустно усмехнулся:
– Представь, я совершенно на мели, не могу купить билет на катер. Каждая копейка в деле!
– Тектонические сдвиги? – спросил Васька.
– А, ты уже в курсе, – не удивился Гаврила.
– Видел наскальный триумф.
– Листовку читал? Согласен?
– Пунктики кое-какие смущают, – признался Васька.
– Это не страшно. Главное, чтоб в целом захватывало! – воодушевился Гаврила, становясь похожим на Некрасова. – Херардо тоже не хочет присоединять остров к материку – бизнес затягивает! Но идею поддерживает. У нас много влиятельных и богатых единомышленников. К примеру, Алексей Степаныч из первых, – перешел он на молитвенный шепот. – Алексей Степаныч Городничий.
– Из турагентства? – припомнил Васька. – Алексей Степаныч – точно!
– Тише-тише. Такие имена не надо выкрикивать. Турагентство – ширма. У него сотни ширм.
Васька не слишком-то почитал авторитеты, особенно полуподпольные:
– И чего за ширмами делает? Гладью шьет да в штаны срет?
Гаврила поперхнулся излишне гигантской креветкой:
– Ну ты, как не родной! Городишь незнамо что! – Он лег грудью на стол. – Алексей Степаныч – главный. У него кликуха, замри – не перни! – Отворотти-Паваротти.
– Поет? – удивился Васька.
– Других заставляет!
Гаврила распрямился. Лицо его горело, глаза сияли, к галстуку прилипла, в виде заколки, зубатая клешня. Теперь он напоминал неистового Виссариона в постели.
– С Алексеем Степанычем никто не сравнится. Большой театр в Москве – его собственность!
– «Какая сволочь! – обиделся Васька за бабу Буню. – Хапнул Большой!
– Он поможет материки с континентами слить, – продолжал Гаврила с придыханием. – Говорят, не переносит самолеты. Особенно через океаны летать недолюбливает.
– А чего же он любит?
– Как то есть – чего? – удивился Гаврила. – Родину, конечно. Алексей Степаныч, как все хорошие люди, – патриот! Вообще он мэр ряда городов и селений.
Пока они эдак разговаривали, Хозефина беззвучно поглощала лангусту, а мальчик с умным медицинским видом грыз хитиновые покровы, как бы догадываясь, что должен быть крепок и несгибаем, дабы продолжить дело папаши по кличке Некрасов.
Песня шестого дня
– Пора и честь знать, – сказал Гаврила, беря портфель. – Хозя, Гаврик, хватит жрать!
Все поднялись из-за стола и замерли – здесь было хорошо, а теперь куда? После обеда задумываешься о будущем. Завершен один из этапов пути и надо снова выбирать дорогу. И нередко, оттягивая решение, склоняешься ко сну.
Хозефина с мальчиком и Васька, конечно, склонялись, но Гаврила был неугомонен.
– Неподалеку в бухте уединенный пляж. Хороший обзор. Тылы прикрыты – ни с моря, ни по берегу не подкрасться. Там и поговорим о наших овцах.
Васька оживал, и рожа принимала формы лица. Хотелось искупаться и вздремнуть. В тишине, без разговоров.
Гуськом они двинулись по узкой каменной тропе, то спускавшейся к самому прибою, то забиравшейся в глухую сельву, где возникали странные звуки и далекие нечеловеческие голоса.
Что-то шуршало, потрескивало, шелестело, цокало, лопалось, причмокивало и произрастало. То будто бы трубил слон, то, как пьяный мужик спросонок, взрыкивал лев, то тявкали койоты. Гукали, верещали, стрекотали, посвистывали, шипели… Кто-то отчетливо шептал в кронах: «Каброн, каброн».
Голова пухла от необъяснимости звуков. Лишь один был понятен разуму, мирный, успокоительный, – то, обожравшись хитина, пукал Гаврила Второй.
– Голоса дикой сельвы, – пояснил Первый, – помнишь, как Има Сумок пела? Хозя тоже может. Порфавор, керида, уно кансьонсито![29]
Молчаливая Хозефина раскрыла рот, и оттуда, от самых глубин и подножий, исторглось нечто доисторическое, тех незапамятных времен, когда континенты, удаляясь один от другого, всплывали и снова погружались, ползли огромные ледники, поминутно извергались вулканы, гибли динозавры, мамонты и зарождался в огне человек. Это была песня утра шестого дня творения!
Да, надо долго молчать, чтобы скопить такую космическую бездну звуков!
Сельва притихла. На тропинку шмякнулись несколько оглушенных птиц. В том числе странный красно-черный попугай с примесью вороны. «Кабронес», – сказал он мстительно, закатывая глаза.
– Это гимн нашего братства! – гордо сообщил Гаврила.
Верхами они подошли к уютной, со всех сторон закрытой бухточке и спускались по крутым, выбитым в скале ступеням.
Мальчонка, воодушевленный мамой, разговорился – мычал, бебекал, лялякал, продолжая подпукивать, и произнес пару членораздельных слов – «бля-бля» и «кабронес». При этом разумно указывал пальчиком в определенную точку пляжа.
– Прислушаемся к подрастающему поколению, – сказал Гаврила, направившись по девственному песку в глубь бухты.
Ветер умер, море лежало плоско, как бритвенное лезвие, не шевелясь, и в глубине бухты меж тремя черными стулообразными валунами было тихо, как в чистилище. Даже мальчонка замолк и прекратил пукать, беззвучно, как рыбка, отворяя ротик.