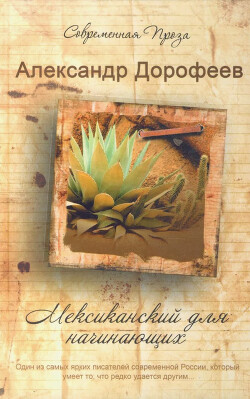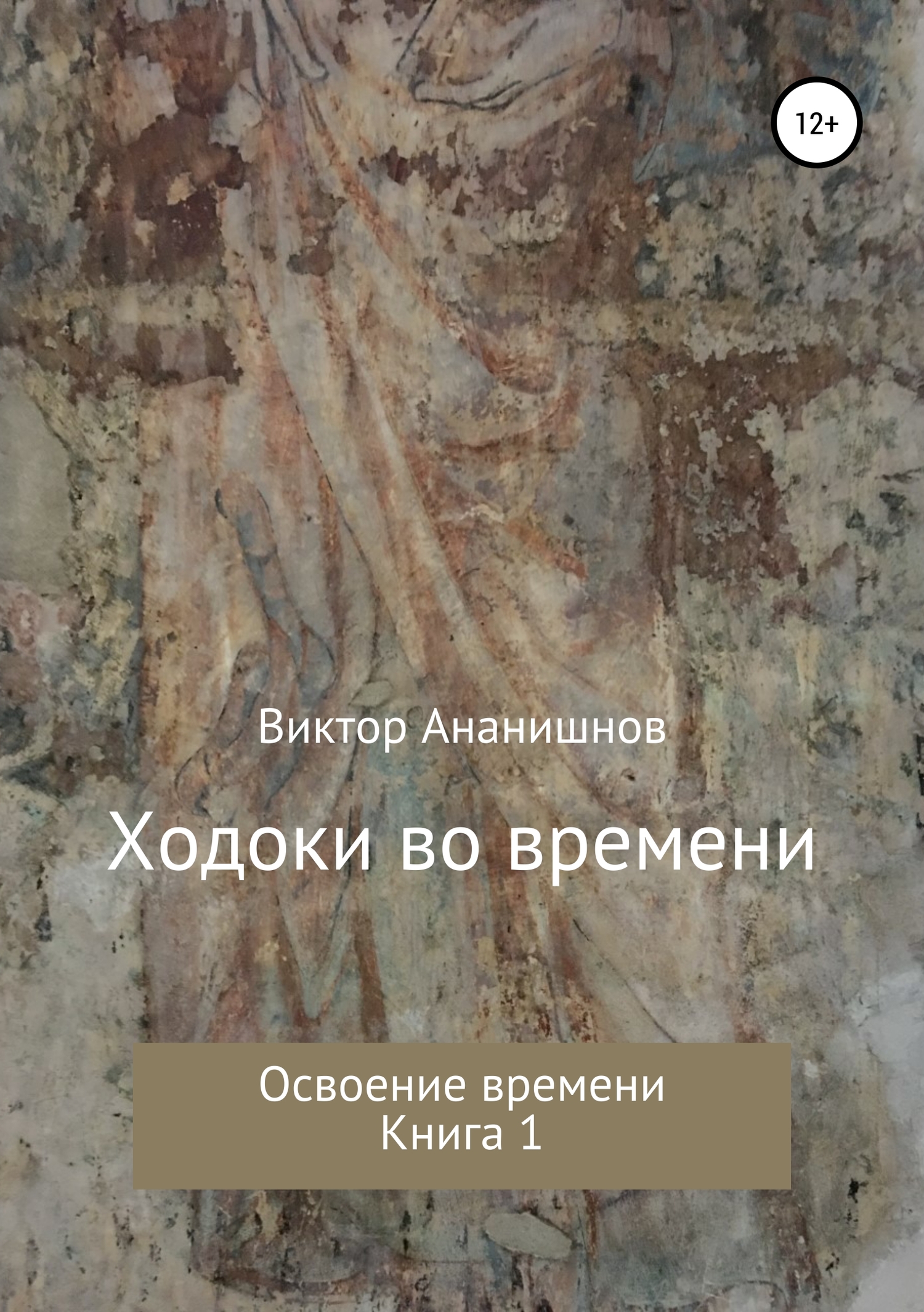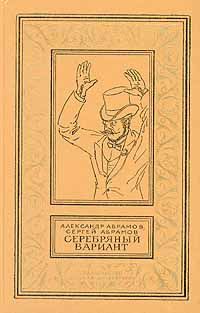– Он в обмороке, – сказал Васька, вновь прижимаясь. – От твоей красоты!
Шурочка трепетала в объятиях, как птичка в авоське.
– Васюлечка мой, котик, я должна идти, милый! Дела! А ты пережди.
Она наклонилась, отыскивая шляпы и сандалии. Взвизгнула, наткнувшись на глухонемого Гаврилу.
– Шурочка, есть бизнес! Углубленно-броненосный!
Васька подметил, что слова слабеют, еле ползают.
– Броненосцы отменяются! – едва различил он. – Завтра в Таско! Что? Громче!
Похоже на междугородний разговор, когда и без того неверная линия угасает, распадается, устремляясь в точку молчания.
Они взглянули друг на друга, шевеля губами, и Шурочка выпорхнула из мертвой зоны. К берегу подошла скоростная яхта, на борту которой горело надраенной медью «Алексей Степ».
Надев шляпы и сандалии, двое с третьим во главе взошли по мосткам, и яхта бесшумно скрылась за скалами.
Гаврила растолкал Хозефину. Облепленные песком, они сонно двигались по пляжу. Вновь было слышно дыхание океана и попукивание Гаврилы Второго. Васька оглядывался на черные валуны, и внезапно, как это бывало с Ньютоном и Менделеевым, его озарило. Да, в мертвой зоне умирают звуковые волны. Но живут волны любви! Они воскрешают слова.
Васька выхватил указку и размахнулся плакатными буквами: «Любовь дает слову бессмертие!»
Прочитав, Гаврила вздохнул:
– Ох-хо! В любой зоне баба делу помеха. За редким исключением Хози.
И подмел веничком Васькино открытие.
Третий угол
Дорога достопримечательных обещаний
Большую часть молчали. Потому что поднимались от моря в горы. А это, как правило, самоуглубляет.
В Шурочке шла борьба долга с призванием. Оно – обычное, как у всякой. Он – пора сказать – криминальный. Поэтому он побеждал оно, и она становилась все более возбужденно-угнетенной.
– Смотрите, смотрите! Горбатые коровки! – вскрикивала вдруг и замолкала, уходила в слабое оно, тяготеющее к Ваське.
У Пако он и оно тихо сожительствовали по договору, срок которого, впрочем, истекал. Он вел дела и машину. Оно, принюхиваясь к пейзажу, через каждые примерно девять километров говорило:
– Обратите внимание, друзья, – по левую руку монумент! Наш революционный герой Эмилиано Сапата!
Пару раз повстречался пеший монумент, удаляющийся по предгорьям Сьерра-Мадре. Один, сложенный из желтого кирпича, просто возвышался, как сельский элеватор. Но в большинстве своем, железные Сапаты скакали на стальных крупастых лошадях и, только громко свистни, сформировалась бы монументальная бронеконная. Таковы смысловой долг и призвание здешнего штата Гереро.[31]
У Васьки, кстати, до недавней поры ни того, ни другого практически не было, если забыть о мелких смешных должках. Но уже родилось и час от часу крепло нешуточное призвание к Шурочке.
Ежесекундно хотелось прикасаться, пощипывать, поддувать в ухо, ласкать, теребить, нюхать, покусывать, щекотать и болтать дребедень.
– А что Алексей Степаныч? – спросил Васька.
– Деловым проездом, – скупо ответила Шурочка. – Передавал тебе пожелания вернуться наполненным, чтоб глаз горел и ушки на макушке.
– Милый человек, – заметил Васька. – Специалист по ширмам! И я, знаешь ли, к ширмам сильно питаю!
– О чем ты?
– Говорю – ширма вещь! Сдвинешь-раздвинешь. Выглянешь-схоронишься. Уютно! У меня дома три! С занавесочками и витражами Луи XV, с хрустальным стеклом в херуфимах, а третья – расписная. Подвигами жертвенной любви. Когда фигово, заширмлюсь и сижу.
– Хорошо ли, – усомнилась Шурочка, – отгораживаться?
Васька вздохнул.
– Одному – так себе. А если вместе – за моими Подвигами, за жертвенной любовью?
– Хотелось бы! – воскликнула Шурочка, но тут же сникла. – И чем займемся?
– Это не вопрос! Чем занимаются нормальные люди за ширмой?
– Вяжут носки? – мнимо наивно спросила она. – Вспомни, Васенька, ты не слишком нормален. Заалкоголишь подзаборно, а я… Я, безусловно, навяжу большую кучу носков. Не забывай, дорогой, о своих дефектах!
О, тяжело об этом! Лезут в голову поломанные швейные машинки, мусорные баки, дырявые цинковые корыта, перегоревшие лампочки, калечные куклы.
– Шурочка! – сказал Васька, прикладывая руку к ее сердцу. – Торжественно обещаю – пить брошу! Через три месяца.
Сердце забилось быстрей, но не подала виду.
– Милый, эти клятвы! Сам знаешь. Нужна кардинальность. И уши! Не упускай, прошу, из виду.
– День и ночь сторожу! – обиделся Васька. – Кардинально! Да хоть епископально! Зашьюсь-пришьюсь до конца жизни и свадьбу справим в каком-нибудь свеже-реставрированном монастыре. Ради тебя готов! Только ради тебя!
Шурочка нежно обняла его:
– Ради меня, ради нас с тобой, не кипятись и не тяни резину. Есть прекрасная возможность устроить все разом. Завтра же! За счет фирмы – Алексей Степаныч дал согласие в целях привлечения дефективных туристов! А Пако – хирург от Бога – не откажет. Си, Пако?
– Си-си! – кивнул он, притормаживая. – Очень кстати! Обратите внимание, друзья! По правую руку простой мексиканский крестьянин Хосе. А достопримечательность в том, что я пришил ему нос, откушенный в соседнем муниципалитете.
– Видишь! – обрадовалась Шурочка. – Пако можно довериться – он даст тебе новую жизнь. Трезвую голову с настоящими функциональными ушами.
«Любопытно, как функционировать будут? Парусить, пылить, оверкилить илить просто шебуршать – листвой и фруктом? – невесело думал Васька, глядя в окно.
А на обочине стоял добрый крестьянин Хосе, привечая проезжавшие машины взмахами дородного муравьедообразного носа. Не было сомнений, что им удобно окучивать маис. Не было сомнений, что Пако – хирург от Бога. От какого? – Это тревожило Ваську.
Памятник нашему миру
Город бел и черепичен. Узкие улицы круто взбираются и почти падают с гор. Отовсюду город на ладони: спускается ли в долину, возлежит ли на склонах, гнездится ли у обрывов, заглядывает ли в ущелья, карабкается ли до скальных вершин, вытягивается ли по хребтам и перевалам.
Казалось, расползается, как дикая малина, но храм Святой Приски, подобно розово-каменному стержню, удерживал, подвязывал, укорачивал вольность побегов. Сдержанность и строгость были тут испанскими. А вот расползание и дикомалинность сохранились с доколумбовых времен, от деревни с веселым индейским названием Тситиопарахуеводепелотаско, то есть Место для игры в мяч, где коренные ребята ритуально забивали голы и баловства ради тянули серебряные жилы из щитовидных ложбин.
Известно, на каждый щит найдется меч. Конкистадоры двуручными упразднили игровые ритуалы, преобразовали ложбины в рудники, коренных – в забойщиков, а веселое местечко – в город с выветренным и подсушенным именем Таско.
Но тоска не удавила потомков игроков в мяч – за четыреста лет шахтерства они выдали на-гора все припасы недр. Рудники закрылись, стало веселее. Если город был в серебряном хомуте, то теперь в канители. Серебро из подземельного превратилось в лавочное.
Несметно число серебряных лавок в Таско – чуден их внешний и внутренний вид при любой погоде!
Только из одного витринного товара можно отлить серебряный Днепр от Киева до Херсона!
Чего только нет в лавках!
Украшения нательные, карманные, настольные, подвесные, настенные, напольные, лежачие, стоячие и слегка ходячие. Серебряные дельфины, крабы и креветки, ножи и пистолеты, тигры, колибри, подсвечники, ходики с попугаем, совы, рюмки и бутылки, аристотели, ширмы, диадемы, кепки, перчатки и носки, наручники и просто браслеты, созвездие Геркулеса, бананы, арбузы, теория относительности вроде бы чистого серебра, элвисы пресли с гитарами, отдельные гитары, быки, барабаны, революция тысяча девятьсот десятого года в миниатюре, полярный медведь в натуральную величину, скрипки, дон-кихоты, донские и кубанские казаки, серебряные сны и серебряные свадьбы, серебро в гранулах и в порошке, Эйфелева башня, бюстики Алексея Степаныча, лампочка Ильича, шкафы, Джоконда и князь Серебряный…Чего тут только нет! Тут есть все! Это серебряный сапата нашему миру!