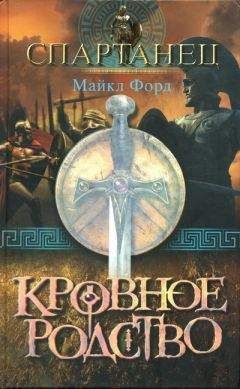Он был хрупкого сложения, зеленый с лица молодой человек, глаза его на свету казались темно-карими. Что-то заставляло предположить в нем раздражительный нрав; разговаривая, он крутил словно пожухлый хохолок на макушке, губы еле заметно кривила тонкая улыбочка.
— Я могу говорить и на Platt Deutsch, но герр Буссен притворяется, что не понимает меня.
— Это тот, которого сегодня отчитывала наша хозяйка? — спросил Чарльз и тут же понял, что совершил бестактность.
— Сегодня? — переспросил Тадеуш. — Она отчитывает его не только сегодня, а каждый день не за одно, так за другое. Он ужасный дурак. Других таких дураков, как северяне, днем с огнем не найти. Пусть себе Роза срывает злость на нем. Меньше будет цепляться к нам. Она сущая фурия, эта тетка.
— Чего вы хотите? — сказал Ганс брюзгливо и надулся. — Это же pension[12].
— Кстати говоря, числящийся в рекомендательном списке, — добродушно сказал Тадеуш, зажав сигарету между указательным и средним пальцами, огоньком к ладони. — И я ничего не хочу.
— Все бы ладно, если бы она оставила в покое мои бумаги, — сказал Чарльз.
— Вы тот американский богач, который оплачивает все, что мы недоплачиваем, — улыбнулся Тадеуш. — Зато вам и кружевные занавески, и лучшая перина. Но если вы проштрафитесь, помните — за ваши грехи взыщут с герра Буссена.
Чарльз покачал головой: это до того похоже на правду, подумал он, что даже не смешно, во всяком случае ему. Разлил коньяк по стаканам, и они снова закурили. Гости расположились поудобнее, а Ганс перевернулся на бок. Они пребывали в самом добром и мирном расположении духа, между ними, похоже, завязывались приятельские отношения. В дверь трижды резко, отрывисто постучали, вслед за тем послышался Розин голос. Она мягко пожурила их, как водится, напомнила, что уже четвертый час ночи, что они в доме не одни, тут есть люди, которые, в отличие от них, хотят спать. Они переглянулись с заговорщическими улыбками.
— Роза, душечка, — Ганс вложил в голос всю силу убеждения. — Мне стало совсем плохо, и они пришли составить мне компанию.
— Вам никакая компания не нужна, — отрезала Роза, — прежде всего вам нужен сон.
Тадеуш неслышно поднялся, резко отворил дверь, и Роза, привидением в халате и сетке для волос, кудахча, кинулась прочь. Тадеуш увещевающе крикнул ей вслед:
— Мы сейчас же разойдемся, — обернулся к ним, и его близорукие глазки издевательски блеснули. — Я знал, как обратить ее в бегство, — сказал он. — Она ужасно тщеславная — можно подумать, ей двадцать лет. Впечатление такое, словно мы в какой-то окаянной тюрьме. — Он снова взял стакан. — Впрочем, Берлин и есть тюрьма. Должен вам сказать, — обратился он к Чарльзу, — я жду не дождусь, когда смогу вернуться в Лондон. Вот куда вам надо поехать во что бы то ни стало. Поверьте моему опыту — я перебывал почти во всех великих городах, разве что в вашем легендарном Нью-Йорке не был, но на фотографиях, сделанных с самолета, он довольно-таки отталкивающий, — цивилизованный человек должен жить только в Лондоне.
Ганс осторожно покачал головой и повторил:
— Нет-нет, в Париже.
— Ладно. — Тадеуш перешел на английский: — О’кей. Этому выражению я научился у одного вашего соотечественника, типичного американца на все сто процентов, как он себя аттестовал. Ковбой из Аризоны, шляпа с ведро величиной. Из трясунов, к тому же вегетарианец, поутру никогда не сядет завтракать, пока не хлопнет стопку виски. Крутил роман с заклинательницей змей, она по совместительству еще танцевала нагишом. Когда я с ним познакомился, он держал маленькое boîte[13] на Левом берегу; развесил там по стенам бычьи рога, лассо. Как-то раз он повздорил со своей заклинательницей, накинул ей на шею лассо и ну таскать по полу. Она от него тут же сбежала, но перед этим подложила ему в постель ядовитую змею. И ничего — обошлось. Как он сам сказал: о’кей, мне все нипочем.
— Объясните, о чем вы говорите? Не забывайте, я не понимаю по-английски, — сказал Ганс.
Тадеуш перешел на немецкий:
— Я рассказывал, как научился говорить о’кей.
— Вот оно что, о’кей — это я понимаю. Но больше ни одного английского слова не знаю, — кивнул Ганс.
Чтобы доказать, что они как-никак мужчины и не позволят собой помыкать, они тянули время и, прежде чем разойтись, долго желали друг другу спокойной ночи.
Выйдя поутру из ванной, Чарльз столкнулся в коридоре с герром Буссеном. Герр Буссен был в куцем бумазейном халате, на руке висело довольно замызганное вафельное полотенце. На пухлом круглом лице расстройство мешалось с недоумением — он напоминал ребенка, которого так затуркали домашние, что он ни от кого не ждет ничего хорошего. Сегодня Чарльза разбудили крики Розы — она за что-то отчитывала герра Буссена. Чуть погодя она принесла Чарльзу кофе, булочки, масло, отлично причесанная, тщательно одетая — и это в такую рань, но в глазах ее не угасло раздражение. Она отдернула занавески, щелкнула выключателем — зимний свет грязноватой водицей залил комнату. И тут же унеслась прочь, забарабанила в дверь ванной, строго, властно крикнула:
— Вы уже пятнадцать минут занимаете ванную, герр Буссен, ваше время истекло.
Вернулась, одним рывком сдернула с кровати белье — и легкий ветерок взъерошил Чарльзу волосы. Встала около Чарльза, вздохнула.
— Как я ни стараюсь, а нет ни порядка, ни покоя, все идет кувырком — разве к такой жизни я привыкла? И в довершение всего еще и ванная. Ее всю заляпали кремом для бритья, пастой, везде лужи, лужи на линолеуме, зеркала и те забрызгали, всюду грязь, нет, вы мне скажите, герр Аптон, почему молодые люди никогда не моют за собой ванну? Но мало этого, так еще и герр Буссен. Что ни утро, у него в постели полно сырных и хлебных крошек, в комоде среди белья сплошь и рядом открытые банки с сардинами, он прячет в шкаф скорлупу от орехов, которые вечно щелкает. Мне все говорят, что он станет профессором, но от этого мне не легче. И каждый, буквально каждый месяц он задерживает плату за квартиру. На что, интересно, он думает, я буду жить, если мне не платят в срок?
Чарльз весь залился краской, вскочил.
— Подождите пару минут, я уйду и не буду вам мешать, — сказал он.
— Вы мне не мешаете. Занимайтесь своими делами, а я займусь своими. Нет-нет, вы меня не так поняли. — Она оживленно улыбнулась ему: видно, поборола накатившее на нее уныние. — Для вашего сведения, перед войной у меня было пять человек прислуги, не считая садовника и шофера, платья я выписывала из Парижа, мебель из Англии; у меня было три бриллиантовых колье, герр Аптон, да-да, три, так чего же удивительного, если я порой задаюсь вопросом: что со мной станется? Я стелю постели, как горничная, мою замызганные полы…
Чарльз, чувствуя, что его загнали в угол, схватил пальто, шляпу, буркнул что-то по-немецки — спроси его, он и сам не смог бы объяснить что, — и опрометью кинулся из квартиры в ужасе: это же полное забвение приличий так откровенничать, и вдобавок Роза еще знает — вот стыд-то! — что он разводит грязь в ванной.
Он заложил фотоаппарат, рассчитывая получить за него сущие гроши, но щуплый субъект в ссудной кассе, оторвавшись от гроссбуха, с видом знатока осмотрел щегольскую камеру и без звука выложил за нее сто марок. Чарльз почувствовал, что он несметно богат, приободрился и поспешил домой в надежде немного поработать. Уже подходя к дому, он увидел герра Буссена — прижимая к груди кулек из оберточной бумаги, по всей вероятности хлеб с ливерной колбасой, в одном пиджаке, хотя стоял зверский холод, тот открывал парадную дверь. Чарльз догнал его на лестнице: герр Буссен, понурившись, медленно поднимался вверх. Со спины его можно было принять за старика, но вот он обернулся к Чарльзу, и лицо у него оказалось даже слишком юным для его возраста — в нем проглядывало непрожитое до конца, затянувшееся детство. С покрасневшего носа свисала капля, глаза слезились, на сжимавших пакет руках без перчаток потрескалась кожа.
— Доброе утро, — сказал герр Буссен, и его неказистое лицо на миг осветилось улыбкой, словно он ожидал какой-то приятной нечаянности.
Чарльз замедлил шаг, они представились друг другу и дальше поднимались молча. Дверь им открыла Роза.
— Вот как! — Она подозрительно переводила глаза с одного на другого. — Значит, вы уже познакомились?
— Да, — сказали они хором и, сильные своей сплоченностью, прошли мимо, не удостоив ее больше ни единым словом.
Роза, бормоча что-то под нос, удалилась к себе.
— Вас она тоже норовит обругать всякий раз, когда с вами разговаривает? — спросил герр Буссен, смиренно, без тени возмущения.
— Пока нет, — сказал Чарльз: он уже начал тяготиться своей неприкосновенностью. Пора переходить на их сторону, решил он, я не желаю и не позволю, чтобы Роза сделала меня своим любимчиком.