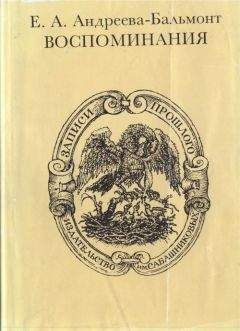— А папа или Михалыч ее видели?
— Нет, они даже говорить об этом не разрешают. И мама просит не говорить о ней ни с кем, кроме тебя.
— Вот видишь, а ты говоришь, умерла! Да она живей некоторых живых…
— Да, это точно, – улыбнулся мальчик. Перелез на своё место, откинулся на спинку кресла и мгновенно заснул.
Через сутки, поздно вечером, нас в аэропорту встретил Макарыч и на своей верной «волжанке» довез до дома. Мы вошли в квартиру, в которой я не был четыре года, но здесь было чисто и свежо, будто кто‑то постоянно жил и наводил порядок. В холодильнике обнаружилось множество продуктов, кастрюля борща и сковорода с котлетами и кашей. Я помог мальчику принять душ, надел на него пижаму, покормил и уложил спать. Хоть Павлик мужественно перенёс все невзгоды перелета с двумя пересадками, но после трёх ложек борща заклевал носом и уже на моих руках отключился и засопел.
Мне же было не до сна. Как это часто со мной бывает, огромное количество впечатлений витало вокруг обрывками рваной бумаги и не давало покоя. Я зажег лампаду и встал на молитву. Глаза Пресвятой Богородицы с Владимирской иконы излили прямо в сердце светлую струю покоя – и после завершающей «Достойно есть» я почувствовал, наконец, мир в душе и уселся в кресло. С полчаса бездумно смотрел на иконы, огонек лампады и проживал чувство покоя. Вдруг боковым зрением, скорей почувствовал, чем увидел справа белое пятно – оно будто манило меня светом. Оглянулся – на зеленом сукне стола лежало письмо. Я встал, взял в руки потрепанный конверт и прочел обратный адрес: «Буэнос–Айрес… Тигре… Мария Смирнова». Смирнова?.. Ах да, ведь это по мужу. Письмо летело ко мне больше четырех лет. Открыл и стал читать слова из прошлого.
«…Ранним утром первого сентября я – семилетняя девочка – проснулась от предчувствия великого события, которое обязательно наступит сегодня. Но ни День первоклассника, ни День знаний, ни начало школьной жизни, ни даже первый солнечный день после полумесяца проливных дождей – не обещали чего‑то великого, нет… Сквозь закрытые веки упрямо пробивался луч солнца, заливая уютный сонный мирок оранжевым светом и пробуждая меня задолго до звонка будильника.
Всё я поняла в тот миг, когда папа с мамой поставили меня в шеренгу взволнованных первоклашек и поймала на себе внимательный взгляд мальчика по имени Арсений. Я и раньше видела его в детском саду, что через дорогу от нашего. Как и я, он иногда подолгу стоял у решетчатого забора, густо заросшего ползучим плющом, и сквозь душистые листики разглядывал дорогу, проезжающие мимо автомобили, прохожих – тоже, наверное, как и я, в приступе одиночества ожидал родных, которые заберут его из детсадика домой. Сегодня Арсений не скользил взглядом светло–синих глаз с девчоночьими ресницами по возбужденным лицам плотной яркой толпы – мальчик смотрел на меня, но так, словно видел весь мой оранжевый мир и всё моё будущее. Как сказал бы папа: «То был не взор мальчика, но мужа!»
Казалось, Арсения и меня в ту минуту связало нечто таинственное и невидимое, но прочное и неразрывное, что соединяет двух человек навечно. И даже гомон праздничной толпы, и даже резкие слова директора Евы Даниловны из мощных динамиков и бронзовая трель первого звонка, который трясла тонкой рукой первоклассница Надя, сидя на широком плече старшеклассника Бутызина – вся эта грубая какофония – не смогла перекрыть тонкого ангельского пения в душе, наполнившего всю меня от пяток до макушки волшебным звуком переливчатого оранжевого света.
— Бабушка, бабуля, – шептала я, прижимаясь дома к теплой груди, на которой выплакала немало слёз и высмеяла много смеха, – бабушка, разве такое бывает, чтобы увидеть человека, мальчика, и понять, что любишь его…
— Манечка, – вздохнула баба Дуся, поглаживая мой затылок и шею большой горячей рукой, – если это любовь от Бога, то бывает. Только знаешь, внученька, сдаётся мне, это не та любовь, из‑за которой женятся и справляют свадьбу, а та, от которой будет много слёз и радости – чистая любовь между чистыми душами. Это от Бога, Машенька, это навсегда.
А вечером мы уже разговаривали с Арсением на лавочке, что в углу дома. Я произносила его имя, такое мужественное и необычное, как имя святого из Четьи Минеи святителя Димитрия Ростовского, что стояли бордово–золотым рядком у бабушки в дубовом шкафу… Снова и снова проговаривала это слово – Арсений, чуть тревожное и несгибаемое, чуть блаженное и сильное, и мне всё больше нравилось имя моего маленького мужчины с большой любовью в груди и пронзительным синим сиянием грустных и добрых глаз, прятавшихся в тени густых длинных ресниц, которым бы позавидовала любая девочка. Рядом мирно ворковали бабушки и голуби, от клумбы сладко пахло цветами, из окон – укропом, салатом оливье и кофе, из подъездов выходили соседи, оглядывались, улыбались нам, первоклассникам, всё еще одетых в бирюзовую школьную форму с белоснежными воротничками и манжетами, а мы говорили обо всём, а в груди гулко билось сердце, а перед глазами медленно плавал оранжевый туман, и мы ожидали чего‑то еще.
И это что‑то наступило. К подъезду подкатила черная «Волга», из неё вышел мой папа, веселый и праздничный, даже больше, чем мы с Арсением. Он заставил нас встать, обнял меня, Арсюшу, неуклюже расцеловал, поздравил с первым школьным днем, сунул мне в сумочку серебристый юбилейный рубль: «сходите в кафе, отметьте свой первый школьный день».
Увы, в кафе «Молочное», что на проспекте, между «Ювелирным» и «Книжным», мы обнаружили множество таких же как мы, бирюзово–белых школьников с букетами цветов, чинно по–взрослому сидящих за столиками. Нам даже пришлось подождать, пока освободится столик у окна, впрочем, наше ожидание скрашивал непрестанный разговор между нами, который не останавливался ни на минуту, словно мы знали друг друга всю жизнь, не виделись целое лето, и соскучились до голода. Оказывается, мы думали об одном и том же, читали с четырех лет одни книги, нам нравились одни и те же фильмы, а по ночам снились очень похожие сны. Даже любимое тайное место на берегу водохранилища у нас было одно.
Румяная официантка принесла нам разноцветные шарики мороженого в серебристых вазочках и высокие стаканы с пенистым розоватым молочным коктейлем и предложила поставить музыку. Арсений протянул пятачок и, подумав, заказал песню «Аве Мария» в исполнении Робертино Лоретти. Официантка опустила в музыкальный автомат монету, нажала кнопку с названием песни – и в ванильно–галдящее пространство кафе ворвался чистый звонкий голос итальянского мальчика, и полетела щемящая душу песня: «Авэ Мари–и-и–я, ве–е-е–ерджин дель че, совра–а-ана ди грация мадрэ пия, якольё нёрь ля фервэнте прегьера…» – подпевали мы вполголоса, часто моргая, смущенно отвернувшись к окну. Мы слизывали с ложечек цветные стружки мороженого, маленькими глотками отпивали шипящий жемчужной пеной коктейль и смотрели за окно, куда из многолюдного кафе улетала прекрасная песня, неслась над серым асфальтом проспекта, парила над сверкающей синей водой, шелестела в желтеющей листве деревьев, взлетала в бирюзовое небо, купалась в солнечном золотистом свете – и вновь возвращалась к нам, за наш столик, где в наших аккуратно причесанных головах рождались одна за другой новые и новые темы для обсуждения… А по щекам сами собой стекали прохладные слёзы. Песня внезапно стихла, вернулся шум разговоров, мы взглянули друг на друга, опустили глаза, достали носовые платки, одновременно протянули их друг другу и, улыбнувшись неловкости, промокнули щеки, он – мне, я – ему.
Потом нас позвала к себе большая вода. Мы дошли до набережной, спустились на песчаный берег к желтой пенистой волне, пахнущей рыбой и тиной, удалились подальше от шумных компаний, пирующих на одеялах с кастрюлями, банками и бутылками; сняли туфли и босиком по щиколотку в мягком теплом поскрипывающем песке дошагали, наконец, до крутого обрыва, в каменистой нише которого на мятых газетах присели и окунулись в тишину – это было любимое место моё, где не раз скрывалась я от дождя, это было потайное место Арсения, куда он сбегал помечтать.
Помню каждый миг того счастливого дня, каждое слово наших непрестанных разговоров, каждый звук песни про Деву Марию, каждое движение, шаг, запахи, вкус, каждую черточку лица и складку одежды, будто всё это случилось только что. Потом бывали наши встречи, иной раз мы даже ссорились, но правда, уже через пять минут мирились, непрестанно прося друг у друга прощение, потому что для нас казалось непереносимым разделяться хоть на миг. Да, это была любовь, но такая высокая и чистая, как голос того итальянского мальчика, как песня, в которой он признавался в любви к Божией Матери, как наши мысли, ведущие нас рука об руку по земной дороге куда‑то очень, очень высоко, где всё сияет вечным светом, где не умолкают блаженные звуки славословия и той живой любви, которая нас привела сюда, в бесконечную «жизнь будущего века», которую мы «чаяли» с детства, сами того порой не осознавая.

![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)