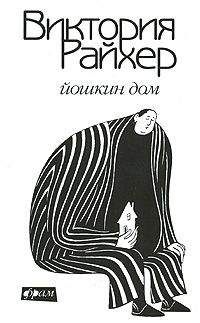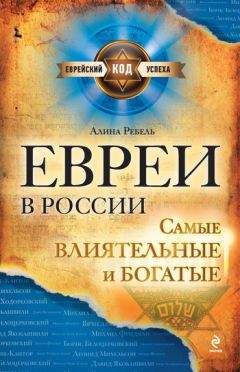— Вы представляете, — рассказывает бабушка своей подруге, маме мальчика Юры, стоящей рядом у края катка — сказала «устала», увела меня домой, а дома, вдруг, говорит — «пошутила»! Я и думать не знаю, что это может быть. Зачем? Никогда я её не заставляю ходить на каток, она сама всегда туда рвётся. Да и сейчас, смотри, как она скачет. Какое там устала, сплошное вранье. Откуда? Зачем? Никогда она мне не врала. Не знаю, что и подумать, Алла, странно мне.
Странно ей, думает Ася с досадой, катаясь неподалёку, и поводит плечами, пытаясь стряхнуть с себя паутину мыслей, возникающих в ней. Ну чего тут странного? Ну, устал человек, ну, пошутил, тоже мне, дел. И тут Ася вспоминает, что она сегодня спаслась от главной опасности — её не забрал к себе дядя—пьяный, и, значит, ночевать она будет в своей постели! А не у окна в чужом доме, как ночует, наверное, до сих пор, та бедная Тамарка, о которой рассказывала Наташа. Асе очень жалко Тамарку, но она очень рада, что не оказалась на её месте, поэтому она изо всех сил отталкивается ногой, и скользит, скользит, скользит по яркому зеркалу заливающегося музыкой катка, и снова кто—то обращает внимание: «Смотри, смотри, как маленькая девочка ездит!», но Ася твёрдо знает, что тут ей это не страшно. Уже не страшно.
Дома у бабушки поздним вечером всё, как обычно — ужин и вкусный чай, ванна, «Спокойной ночи, малыши» в пижаме, и спать, спать, под одеяло и плед, с конфетой на стуле возле кровати. Конфета называется «насонка», это потому, что даётся на сон, чтоб спокойно спалось. Обычно Ася не успевает перед сном её съесть, она засыпает быстрее, а конфету съедает с утра, продлевая себе сладость прошедшей ночи. Но в этот раз «насонка» — это «Белочка», с орехами, Ася такие ужасно любит, поэтому, уже совсем засыпая, всё же надкусывает коричневый сладкий кирпичик, но жевать уже нету сил, и она так и замирает, с губами, перемазанными шоколадом. Но нет, нет, еще нельзя засыпать, еще осталось самое главное. Бабушка, зовёт Ася в соседнюю комнату, где горит ночник, бабушка, скажи мне ласковые слова!
Реченька моя тихоструйная, звучит из соседней комнаты, и Ася сонно жуёт шоколад, колокольчик мой звонкий, солнышко моё ясное, девочка моя прекрасная. Конфета заканчивается, от неё остаётся фантик. Фантик надо обязательно положить под подушку, тогда приснятся хорошие сны. Реченька моя тихоструйная, колокольчик мой звонкий, повторяет бабушка, и сама засыпает.
А на следующий день неожиданно приезжает папа. Обычно, когда Ася ночует у бабушки (а ночует она у бабушки очень часто, особенно с тех пор, как мама совсем не встаёт), папа приезжает её навестить в выходные, ну или в праздник какой, а тут вдруг является просто так. Ася радуется ему, но он отстраняет её прыги и визги, и требовательно говорит «я приехал специально, поговорить с тобой». Ася удивляется, зачем это специально приезжать с ней говорить, но слушает, раз уж так.
— Ты обманула бабушку! — говорит папа серьёзным тоном, глядя прямо на Асю, — ты сказала бабушке неправду.
— Я пошутила, — защищается Ася, мгновенно поняв, о чем речь, — я просто сказала шутку.
— Такая шутка — это неправда, — настаивает папа, — ты сознательно ввела в заблуждение пожилого человека. Ты заставила бабушку ходить с тобой туда—сюда, ты мало того, что обманула её, так еще и вынудила из—за себя тратить лишние силы, которых у бабушки и так немного. Я очень озабочен, Ася. Я не знаю, что делать с человеком, который мог так обмануть бабушку.
Ася молчит. Она тоже не знает, что делать с человеком, который мог так обмануть бабушку. Она точно знает, что нет никакого смысла рассказывать папе о том, что на самом деле было на катке — ей просто не приходит в голову ему это рассказать. Она не чувствует себя виноватой, потому что точно знает, что иначе поступить не могла (вот разве что соврать чуть—чуть удачней, но это ж надо заранее знать, а ей надо было соображать побыстрей), но и правой не чувствует тоже. Она знает, что НЕ обманывала бабушку, и твердит своё «пошутила» столько раз, что под конец папа начинает по—настоящему сердиться и кричит. Он кричит, что обманывать бабушку ни в коем случае нельзя, вообще никого нельзя, а бабушку — тем более, что Ася — неблагодарная свинья и плохая девочка, если она этого не понимает, что дети, которые так глупо шутят, в конце концов становятся настоящими обманщиками и что Ася очень его расстроила.
Ася молчит. Папа тоже очень её расстроил. Они договаривают как—то криво свой «специальный разговор», и идут пить чай. За чаем Ася вяло даёт обещание никогда—никогда никого не обманывать, и, кажется, это всех успокаивает. Бабушка гладит её по голове и говорит, что её внучка, несмотря ни на что — очень хорошая девочка, но Ася ей не верит. Она уже сама не знает, какая она девочка. Может быть, и плохая.
Потом проходит неделя, и взрослые всё забывают — а потом им становится совершенно не до того и вообще ни до чего, потому что мама начинает умирать. Ася не знает, что такое «умирать», она услышала это слово по телефону и запомнила. Через еще неделю мама умирает, и начинает называться «умерла», и Асе объясняют, что мамы больше нет. Нигде. Можно не искать, это не прятки. Асю все жалеют (хотя она не понимает — почему, ведь это не она умерла!), дарят подарки и гладят по голове. А она убегает в кухню и стоит там на батарее, уперевшись лбом в стекло и глядя на снег, кучно валящийся с неба.
Ей понятно, почему умерла мама: мама умерла потому, что Ася — плохая девочка. Мама сначала её разлюбила, а потом умерла, потому что нельзя просто так разлюбить того, кто когда—то был твоей Асей. Ася — плохая девочка, и мама не захотела больше её любить, а значит, и жить вместе с ней. Ася знает, почему она — плохая девочка. Она плохая девочка потому, что тогда, на катке, она всё—таки обманула бабушку. Ведь она ни капельки не устала, ничуть. А сказала, что устала — значит, обманула. Она обманула, и мама умерла. Мама умерла из—за неё, и никто об этом не знает, знает только Ася и знала мама, потому что еще до того, как всё случилось, она уже заранее знала, какая Ася будет плохая, и потому—то в последний день, когда они виделись, мама никак, ни за что на свете, ни за какие слёзы, не согласилась Асю поцеловать.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР. ПИСЬМА НАОБОРОТ
Ведь я—то знаю, что с тобою случится, а ты — еще нет. Ты совсем молода, и еще ничего не знаешь — а я старше, и уже кое—что знаю. Но я не там. Там — ты, одна, единственная в ту минуту того своего бытия, и я не с тобой, потому что меня еще нет. Я буду потом, скоро, нескоро, я буду тогда, когда тебя уже не будет, но я буду знать, что ты была. И именно то, что ты была, придаст мне силы написать про тебя то, чего сама про себя ты никогда не напишешь.
Смертельный номер два. Письма через наоборот.
— Звонила Ася. Она в Москве, хочет забрать письма.
Евгений Сергеевич встал с дивана, постоял немного и сел снова. Сын, как всегда, раздражающе лаконичен — но при этом обычно прав. Наверняка ведь Ася звонила не за этим. Евгений Сергеевич достаточно хорошо знал людей и саму Асю. Наверняка ведь она долго расспрашивала, как дела у сына и здоровье самого Е.С., наверняка вздыхала там, где нужно вздохнуть и молчала там, где нужно смолчать, потом, как всегда весело и недлинно, рассказывала про свою жизнь, просилась приехать, уточняла адрес — и только в самом конце, видимо, проговорилась. Сказала что—то вроде «да, кстати — у вас ведь остались мои письма?».
Антон, спросил Евгений Сергеевич, она сказала про письма «да, кстати» и в самом конце, верно?
Верно, — рассеянно согласился сын, «да, кстати» и в самом конце. Но какая разница?
Письма, конечно же, остались — полный ящик. И не только письма. Тетради каких—то сочинений, стихов и признаний. Не тетради — тома. Открытки ко всем праздникам, включая день ангела и чуть ли не день пожарника. Журналы, в которых выходили Асины статьи — их она присылала тоже. Фотографии, посвящения, картинки, опять стихи, потом какие—то рассказы. Большинство писем с трудом влезают в конверт, хотя есть и тоненькие, эти из последних. Вообще—то письма и открытки к праздникам посылали все, поначалу — так абсолютно все, потом уже не все, но многие. Танечка Решетникова писала, Лёня Штерн, Андрюша, Галка. Гриша Сачков осенью четыре года назад привозил видеозапись своей свадьбы. Привез и подарил, странновато как—то, зачем им? — но подарил вот, до сих пор лежит. И всё это вместе занимает два других ящика, верхних, в них же лежат старые школьные еще фотографии Ариадны и её учеников, и более поздние тоже. А два ящика нижних, целиком, с верхом, так, что они оба с трудом закрываются, заполняла одна только Ася. В течение пятнадцати лет.
— Папа, только ради Бога, — сын говорил уже из коридора, — не устраивайте тут вечер воспоминаний. Придёт, заберёт письма, и пусть уходит. Я вернусь вечером усталый, я не хочу никого видеть. Хорошо?