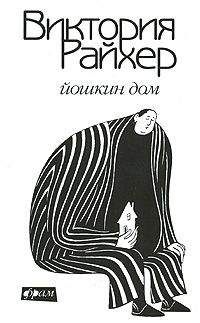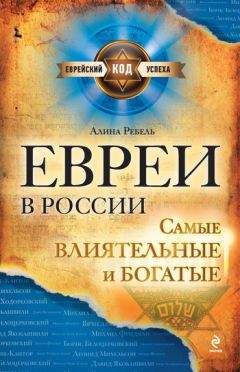— А почему ты не могла просто зайти вместе с ними?
— Почему—почему. Не могла. У меня руки дрожали. К тому же, кому нужно было общаться вместе с ними? Я же хотела с ним одна общаться. Ну и фасон держала, ясный пень. Я ж не валилась, чуть что, ему в ноги: ах, ах, я Вас обожаю! Какой там обожаю, я фыркала, я делала вид, что не вижу, что он идёт, я пряталась в толпе девчонок и мы ржали там, как ненормальные. Ой, доброе утро, Александр Аркадьевич, что Вы говорите, ветер сильный? А я и не заметила, я вчера была на спектакле на Таганке, поздно домой вернулась, а сегодня опять вечером занята, на концерт Ростроповича иду, вот на погоду уже и внимания не обращаю, а у Вас, Александр Аркадьевич, что нового?
— А он?
— А он рассказывал, где был и что видел, ну или не рассказывал, как когда. И дальше шел, а что ему еще делать.
— А ты?
— А я оставалась с той же толпой девчонок и мы ржали себе дальше. Пока он мог нас слышать.
— А потом?
— А потом я уходила в туалет.
— Плакать?
— Ну почему обязательно плакать. Не всегда.
* * *
Дорогая Ариадна Аркадьевна!
Каждый очередной звонок для меня — это месяц ждать и десять минут жить. Десять минут — это ужасно мало, если здесь когда—нибудь снизят цены на международные разговоры, я поверю в Бога. Впрочем, я в него и так верю. Ну да Бог с ним, с Богом, давайте я Вам лучше расскажу, как прошёл мой вчерашний вечер.
После разговора с Вами я вышла с почты и пошла по улице. У нас тут есть главная улица в центре города, называется Бен—Йегуда. Она пешеходная, вроде Арбата, по ней вечно шляется великое множество туристов, а еще стоят художники, играют музыканты, шум, гам, короче, никто ни на кого внимания не обращает, в чем и цель. Потому что мне как раз надо было, чтобы внимания на меня обращали поменьше. Но, для разнообразия жизни, не потому, что я рыдала прямо на улице, или что у меня что—нибудь развязалось—оторвалось, а как раз наоборот. Вы смотрели фильм Феллини «Ночи Кабирии»? Там есть одна сцена, которую я вчера вспоминала целый вечер. Фильм я сама не смотрела, кстати. Но видела оттуда одну сцену, её показывали, кажется, в «Кинопанораме». Там девушка, Кабирия (по—моему, она была проститутка, но точно я не знаю), идёт по улице, и улыбается. И всё. И так она идёт, и так улыбается, что всё перед ней расступается и весь экран, всю улицу и весь мир занимает эта её улыбка. Она очень спокойно улыбается, без экстаза, без гримас, и вокруг неё течет обычная жизнь, а она из этой жизни выключена напрочь и полностью в этой своей улыбке растворена. Так вот, я вчера была этой Кабирией. Я шла по улице Бен—Йегуда, и вся улице Бен—Йегуда уступала мне дорогу. Я никого не видела, и меня, по—моему, тоже никто не видел — а просто уступали дорогу, как явлению природы, что ли. Расслаивались, таяли, отступали, я шла и улыбалась, и никто мне был не нужен и не страшен, и было мне так хорошо, что хотелось плакать. Улица Бен—Йегуда не очень длинная, но я по ней ходила туда—сюда, наверное, час. Всё ждала, когда с моего лица сойдёт улыбка, и можно будет спокойно пойти домой. Но улыбка так и не сошла, поэтому пришлось купить большое мороженое, у нас начали выпускать новое, пломбир с черникой и кусочками горького шоколада, и с этим мороженым идти. Мороженое хоть как—то оправдывало мой абсолютно идиотский вид. К счастью, дома никого не оказалось, и я еще долго валялась на кровати и вспоминала наш разговор. Вы меня можете спросить, «ну что же в нём такого было», а я не знаю, чего мне Вам отвечать. Мороженое было вкусное, кстати.
Из безнадёжно забытых и так и не рассказанных вчера новостей: я—таки сдала эту чертову сессию, и теперь официально именуюсь второкурсницей. Учиться мы еще не начали, но на кафедре уже вывесили список требуемой для второго года литературы — и тут—то я окончательно поняла, что, когда я решала пойти учиться, моя голова была в отпуске. Потому что, посудите сами, слыханое ли дело, чтобы один студент за один год
* * *
— А тебе было не жалко от него уезжать?
— «Жалко» — это неправильное определение. Правильное определение — «больно». Знаешь, есть такая боль, настолько сильная, что ты как будто тупеешь, и всё видишь сквозь туман. Это уже настолько больно, что как бы и не чувствуется изнутри, просто потому, что тебя вне этой боли просто не существует. Я поздно сообразила, где—то в сентябре, а уезжали мы в декабре, так вот с того момента, как сообразила, и до — ну, сложно сказать, до когда, вообще—то оно и сейчас побаливает, хотя прошло уже довольно много лет — я не жила, я выживала. Пыталась говорить с парой подружек, которые знали, в чем прикол. Остальные—то и не знали ничего.
— Но зачем тогда было всё это? Почему нельзя было просто остаться?
— Остаться? В качестве кого? Вечной при нём побегушки? Влюблённого половичка возле входной двери его квартиры? Я ведь только ради него и ради общения с ним и жила, это же не жизнь. Я была счастлива, когда он мне что—нибудь хорошее говорил, что я умная, например, или что ему со мной интересно, мне это мир делало сразу цветным до искр из глаз. И одновременно я понимала — ну, еще год так, еще два. А потом? Надо же к чему—то стремиться, что—то делать, а мне было стремиться только к его подъезду, чтобы на окна смотреть. Мирка, я три года ходила минимум раз в неделю смотреть на окна! Через весь город ехала, стояла через дорогу, во дворе, и на окна смотрела. Пятый этаж. Как сейчас помню. У людей — институт, репетиторы, друзья, подруги — а я на окна смотрю. Шиза.
— Погоди, погоди, при чем тут окна, ты же говорила, у тебя были подруги. А Динара как же? А Сонька? А Ирочка? А вторая Ася, которая Настя?
— Подруги были, да. Хорошие очень подруги, я до сих пор с ними общаюсь. Настоящие. Динара, Динка, одноклассница, лучшая, самая близкая, всё знала, обо всём ей докладывалось, мы с ней часы проводили за дискуссиями — как мне с ним поумнее себя вести, и вообще что делать, а ей я попутно советовала, что ей говорить её Лёшеньке, а между делом — маме, чтобы верила, что у её Динарочки с хулиганом Лёхой ничего абсолютно интимного нет. У Соньки была похожая на мою история, мы жаловались друг другу на жизнь и пытались друг друга типа консультировать, не то что бы у нас получалось, но разговоры были потрясающие. Ирочка вообще ходила за мной по пятам, как хвостик, с тех пор, как узнала, что я уезжаю, так просто практически переехала ко мне жить. Мы же с шести лет дружили, срослись, можно сказать. Ася вторая, из музыкальной школы, которая там и только там из—за меня стала зваться Настя, чтоб нас не путали, приходила и уходила, тихая, молчаливая, приносила пироги собственного сочинения и пыталась уговаривать меня что—то есть, я совсем тогда, кажется, есть не могла: не лезло. Были друзья, были. Еще какие.
— Тогда почему ты говоришь — у людей друзья—подруги, а у тебя — окна?
— Да нет, это не совсем точно, были и у меня не только окна. Но, понимаешь, я всё время его чувствовала. Ощущала. Думала о нём, думала о том, когда я снова его увижу, липла к окнам, чтобы поглядеть блин на небо и о нём помечтать. Друзья, подруги, мальчики (а у меня и мальчики были, как же без мальчиков, с кем—то гуляла, с кем—то под гитару пела, хорошие были ребята все) — всё было, но всё было как—то по касательной, а главным был он и что происходит между нами. При том, что между нами не происходило решительно ничего.
— Слушай, а что такое «по касательной»?
— Мама дорогая, Мира, русский язык должен быть оскорблён от одной мысли, что он является твоим родным…
— Вот сейчас стукну, быстро узнаешь, кто должен быть оскорблён от какой мысли! Я, между прочим, никогда в жизни не училась ни в какой магаданской средней школе. Я с первого класса училась в Центральной Городской Гимназии города Тель—Авива! И твой любимый русский язык имею право вообще не знать!!!
— Имеешь, имеешь. Но ведь знаешь же?
— Знаю. Точнее, вспоминаю. Поневоле. Иначе у меня не было бы возможности слушать твои бесконечные байки — потому что иврит у тебя, дорогая…
— Ничуть не хуже, чем у тебя русский! Хамло! Я пять с половиной лет назад получила «сто три» за письменный экзамен по грамматике на уровень «Далет»!!!
— Врёшь! Не бывает ста трёх! Не бывает!
— А вот и бывает. Учительница была так потрясена глубиной моих знаний, что поставила мне высший балл — сто, а еще три балла добавила от себя, просто так…
* * *
Дорогая Ариадна Аркадьевна!
Простите, ради Бога, за то, что пишу так редко. Закрутилась совсем и окончательно, выпускные экзамены в универе — это пакость неимоверная, ни сна, ни отдыха измученной душе. К тому же, денег бедным студентам за корпение над учебниками почему—то не платят, поэтому приходится подрабатывать. В качестве халтуры я пишу статьи в местную газету, на разные псевдо—экономические, а то и вовсе не—экономические темы. В последнее время подсела вести колонку про рестораны. Выглядит это так: приходит в какой—нибудь ресторан очаровательная девушка (это я, если кто не понял, и ничего смешного!), вся такая из себя изящная и утонченная, в черном свитере с высоким горлом, с серебряным ожерельем на черном свитере, и в серых штанах в клеточку, которые мой папа взял на олимовском складе лет пять назад. Приходит, да. Здравствуйте, говорит. Я, говорит, молодой журналист (правды в этом — разве что слово «молодой», но кто считает), работаю в газете «Иерусалимское здрасти». Мы делаем еженедельный обзор иерусалимских ресторанов, и такой крупный и известный ресторан, как ваш, просто ну никак не могли обойти стороной. Не могли бы Вы мне (и взгляд тут такой кидается плотоядный в сторону кухни, это я не нарочно, это так получается почему—то) эээ рассказать о вашем на весь город прославленом меню???