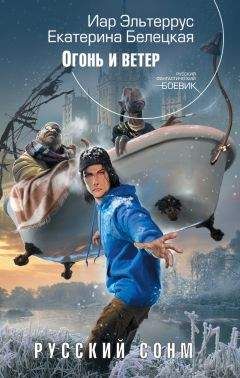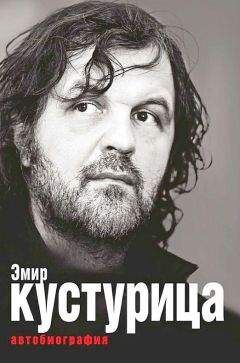Остов полуострова, поцелуем присосавшегося к Азии, разлагался теперь, перерождаясь и семитизируясь, сызнова обретал свою священную, девятигодовалую, с фиговым рыльцем, сущность, отказываясь изгонять своего беса. Восток с Западом сомкнулись и хлестали меня из иллюминаторов по добровестнически подставляемым им щекам. Паки требующим бритвы! Ну что ж!? Ещё раз!
Алексея Петровича зазнобило, точно всю ночь напролёт провалялся он хмельной, раскинувши руки на разборонённой борозде, бывши затем разбужен не Авророй, но синицей, поначалу призывающей на республиканский манер Ле Пена, а затем неумолимо скатывающейся на клерикальную латынь, да вливаясь в дельту Мессы Пия Пятого. Качнувшись, сделал он первый шаг к выходу и, пошатываясь, продолжал продвигаться, подпевая, с глинковской интонацией переиначивая Америку на Царя, меж измаянных крикливым смехом воздушных извозчиков, меж фламандцев, утерявших вдруг свой первоклассной брынзы оттенок — получивши взамен кисельный колорит хронических алкоголиков, — словно опальный Дон Гуан подмешал, всё ж таки, в их расу своего гераклова гемоглобина! Балабанова, шмыгая зелёным, с рдеющими ноздрями, центром лица, натянула тёмно-голубую куртку с расистским клеймом скачек граубюнденского Гелиополя, и, попирая золотые обрывки Мирводова — жохлые листья скептика-пилигрима, гримированного под психолога, — ринулась, подскакивая и бесстыдно зависая в воздухе, к выходу. Алексей Петрович — за ней.
Вездесущелапые своры парижских негров несли на плечах, как протазаны, огневласые, пышнобородые швабры, и фыркали, лениво отбиваясь от них, синеглазые вандальские девы, передразнивали чёрный вал увальней на наречии Атласа, и, глупее их исполинского пращура, высились пограничники, впустившие всех до единого фламандцев (сутулящихся, козыряющих перед властью и учащённо двигающих лопатками), словно те были бесплотными тенями при паспортах с подобием ферзевой короны проигравших белых. Лишь мундирная кариатида из гильдии Брунгильд, некогда натурализированных в Бургундии (после переметнувшихся в паутину, к l’Universelle arraignée, получивши, таким манером, доступ на вялую марьяннину грудь), стоя под знаменем, из коего Солнце выплавляло, точно на её лысеющее темя, розовую струю, отковырнула из толчеи девицу поизящнее необычайно жилистым своим перстом с горельефными венами, и, приложивши его к своей ряхе куриноногой бёклиновской сирены, прямо на припудренный прыщ подбородка (симптом мысленного напора человекообразных: надо, мол, физически поддержать мозговое вместилище!), принялась, с непрофессионально скрываемым наслаждением, тотчас отразившимся в тряских жировых шишечках желваков, неотступно сотрясаемых икотой, мучить, завладевши её документом, эту блондиночку с сочным рыльцем — сразу видать, без тычинки: «Ага, так вы, значит, Гертруда Тенебр!??» (вопросительного недоверия куда больше, чем восклицания). «Брррр!» — передёрнуло Алексея Петровича ознобовым валом, и, словно ублажая его, с юга накатывал карильонный торнадо, сначала слабо славя Саваофа, а после — крепчая, стервенея и свирепея, гулом снося увядшую республиканскую муть, погребая её собой, утягивая её в планетные глубины своим медовым млековоротом.
Волна схлынула. Алексей Петрович попрал кисельную пену пляжа, и Афродита Небесная, та, что красуется на критских паспортах, заголубела вдруг вкруг светила, обволакивая его неженской нежностью нежити, презирая, однако, свою безземельную, тьеполову теплоту, как веницейский князь Иванушка, предтеча Кадышева, — высоту.
За заставой, на французской территории, предводительствуемые «Бабой» Сегантини, приветствовали фламандцев их фламандские же родичи, ещё не залучившие части нажитого заокеанского скарба, но, предвкушая её, уже всплёскивали руками — нечестивое выражение человеческих чувств! — да, чаплиновским жестом обращая в прах окурки, заряжали фотоаппараты с людоедскими ухмылками познавших добро и зло. А над ними, на колоссальном экране, рекламный базельский буржуа, святотатствуя под Рождество добротным коньковым стилем, похабно расчленял халкионические ножны лыжни, славно выкованные ночным монстром, — и тут же, где-то (судя по рыжему снегу) у антиподов, один за другим выстреливались с трамплина (над бегущей справа налево неисчерпаемой строкой …mon-Salomon-Salomon-Salomon-Salo… Алексей Петрович не досмотрел, за что тут же и принялся себя казнить) семеро молниеносно распластывавшихся в воздухе летунов, головастые, будто гринды — лоцманы порта моей Галлии, когда страннейший странник Рима, этот лангобардовый и вихрастый хорейный Зверохор, на своей тирсовой триере, струится в его воды, молниеносно консервируясь ими на века: «А-а-а-а! Мне-то и предстоит вознести эти амфоры к свету! — глоток воздуха и, амфибиево вильнувши торсом, — за следующим сосудом!».
Солнце хлестнуло его в фас. Нельзя было уклониться, нырнув, как учил гуттаперчивый кельт в дожо окнами на позеленевшую от выхлопных газов и коломбовых экскрементов фригийскую бабушку, прущую с берёзовой лозой из дубравы в хаммам. Алексей Петрович выставил длань исподом к светилу, отчего дельтовидная мышца вздёрнула правое плечо, а из зазиявшего пазуха сумки грохнулась оземь давеча сворованная бутылка. Ничего не было видно, но Алексей Петрович, то ли оберегая брюки, то ли подчиняясь издревле впаянному в него инстинкту, подскочил по-козлиному, и тотчас сгорбившись, повернулся, изобразивши из ладоней теремок, оглядел место взрыва: пятно, изошедшее пузырями, как самородками, — точно пластины храмовых кровель, уже содранные восточными супостатами, уже брошенные в горнило, уже переплавляемые в исконные ископаемые формы, и пучившиеся от рудной радости, — расплывалось, пропитывало асфальтовые трещины, и, наконец добравшись до решётки, обрушило внутрь винные остатки при совершенно осатаневшем лазурном благовесте.
Рядом с колонной седовласый фламандский отрок, поворотившись хребтом к матери (вылитая Лидочка, только с рубиновой прорехой меж палевых зубов), осуждающе глянул на Алексея Петровича, пока его родительница, запустивши — как небрезгливые дантовы демоны в души гоморреанцев, — руки по локти в анус сыновнего рюкзака (весь в жилочках, кровоподтёках, волоконцах, фурункулах, с подленькой пацифистской наклейкой), рылась в нём, подчас извергая рык нетерпения, да толстенными подошвами булькала, покрывая его журчание, в ручье, влачащем патоковый шлак, лаву, львиноглавые монеты, велосипедные спицы, и, уже вовсе неуклюже, — проплыла тёмно-оливкового цвета печать.
Я обмакнул щепоть в тотчас ужалившее меня вино. Слизнул смесь, выплюнувши осколок, начавший свой долгий, звяклый, на «соль», пляс по асфальту. Прозрел. Двинулся медленно, уминая во рту — будто муравьед — язык, поначалу чавкая ступнями и шатаясь, точно сумасброднейший подёнщик месил грозди в казанце, мимо жандармского «голубка» (ведь есть же «воронок»!) «Irisbus», вслед за пышноусым индусом, который, блистая серпами пуговиц шинели советского офицера, необычайно плавно и ритмично качаясь, будто шёл по морскому дну, нёс славно уютную люльку («riquiqui» — сделает, как писывал Лермонтов, свой янусовый вопрос француз), где исходящее огненными волнами, словно шаровая молния, кольцо всплёскивало восемью младенческими шупальцами, и, перенявши этот жест, урчавший «юм-юм» локомотив с исполинским эпистомием, слепо припал, прыснув искрами, — точно христарадник, нащупавши купель, окунул наконец туда пальцы, — к накачанному вольтами троссу.
Вскоре шаг отвердел, и я вошёл в поезд, — ёкнувший, лязгнувши дверьми, будто получил под челюсть, повлёкший меня в полуденную сторону, — лишь сейчас сообразив, что меня впустили в Европу, так и не спросив документов, словно и вовсе проглядели меня.
Пригороды варварскими легионами устремились к Парижу, ощетинившись пиками да скошенными щитами, а я проносился, обгоняя их, воеводой, навстречу возлюбленному моему автократору. Солнце полонило меня, и я ощущал извивание каждого грудного волоска. Подчас поезд тормозил, уступая рельсы ревущему лоснящемуся составу, рвущемуся к Митри, впускал резервные африканские подразделения, непоседливые, злобные, тотчас зажигавшие свои едкие курения, — и снова набирал скорость (вот, трепеща, вылетело оконное стекло, словно нескудеющая искроверть всосала его, и, заразительно, басом, загоготал обезумевший патриарх, подавая пример своему племени!), прокатывая мимо прямоугольного загона, где муштровались предназначенные ближайшему рождественскому убою ели, заранее перенимавшие окраску кисельных кислевских небес Парижа хвоежатвенной поры; последнее деревце несло в лапке, точно свою парубковую жертвочку, варежку с белой да пурпурной, как слёзная меланхолия, полосами. Потом сгинуло и оно. Показался выводок двенадцатиэтажек под трубами — опятами да поганками. А усатые португальские бесовки, при подмоге колченогих домовых, истово выдраивали золотые ручки дверей, как самоварные пуза. Смеялась грызущая aesculus детвора, вздымая, завидевши электричку, правые, почти львиные, лапы, будто отроки с бесстыдством царственных бестий жаловались на занозы.
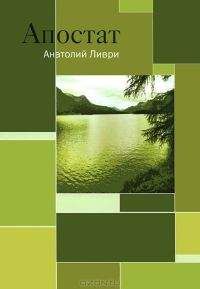
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/116286/116286.jpg)