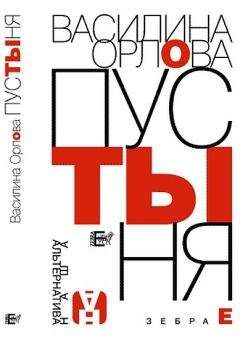«Кого ты любишь?»
Обедала там же, в Ливадии. На столиках с матерчатыми скатертями стояли вазы с живыми цветами. Лепестки тепло просвечивало уходящим солнцем. Как на дударкивском столе…
Неужели для кого-то таким Дударковым был этот пугающе огромный дворец?
Димина мама еще в пору нашего начала удивлялась: как кто-то там разошелся с кем-то там, у них же квартира была! Огромная! На улице Кирова, нынешней Тверской!
Я удивлялась в свою очередь: при чём тут вообще квартира? Потом я уже не думала, конечно, что квартиры совсем-пресовсем не при чём, но всё-таки они не главное.
Сказать, что я не плакала, как ни удивительно — почти не солгать. Во всяком случае, те редкие маленькие, и, должна признать, злые слезки, что выкатывались из глаз помимо воли, когда мы расстались — словно были вызваны брызнувшим в лицо луковым соком, и могут быть не засчитаны, если знать, сколько я плакала в замужестве. Бедная Присцилла! (Поверить не могу, что то была я). Уже почти привыкла видеть своё лицо, оплывшее, оплавившееся, опаленное, потерявшее первоначальную форму, словно бы я пила. Но звонко, как пощечина, поразило лицо в канун двадцать четвертого дня рождения — собственно, то и был день, с которого можно было бы отсчитывать разрыв, хотя, как это часто бывает со значительными событиями внутренней жизни, на роль точки отсчёта подходит почти любая календарная дата.
Я подкрасила веки и губы, хотя обычно ничего такого не делаю. Муж не терпел косметики, я, в общем, тоже не особенно была к ней пристрастна, а под венцом была без единой отметинки губной помады или пудры. Порой до замужества я красилась, скорее по общему заведенному обычаю, чем по собственному побуждению. Теперь-то, пожалуй… Но речь не о теперь.
В тот день от обиды и огорчения раскрыла только что подаренную коробочку теней — их и дома-то не водилось, кстати пришелся Наташкин подарок. Когда я положила на веко мазок серой бабочкиной пыльцы, в душе взыграло мстительное чувство.
Выпила немного вина. И просто ударило отражение в ванной, куда забежала сполоснуть руки: накрашенная, слегка захмелевшая с понарошку глазами, надломленная, угловатая, истеричная молодая женщина.
Ты ли это, послушай? Ты ли это?
Ты ли это?
Однажды летом и с Дмитрием побывали на море. Если разобраться, море — та же пустыня, только не песка, а воды. В ней точно так же нельзя жить человеку, как и в пустыне обыкновенной, хоть она и кишит живностью. Но, впрочем, в любой самой выжженной лесостепи вечно полно всякой твари, тушканчиков и гюрзы.
Лежали на пляже. Что ещё оставалось делать на море? Мы делали то же, что и все остальные: покупали чартчхеллу, плавали, я один раз тонула. Он, можно сказать, спас мне жизнь. Остались фотографии.
Я долго думала, какое слово выбрать, обозначить, что произошло. Развод — слишком формальное, сухое. Походы в ЗАГС, оформление документов и так далее. Об этом думала, кстати, без того часто присущего гражданам ужаса, какой вызывает всякая необходимость что бы то ни было решать с бумажками, которые сопровождают весь наш жизненный путь от рождения до смерти и даже несколько, а порой и существенно дальше.
Дмитрий как-то сказал: «Тебе предстоит написать книжку».
Кто ж знал, что книжка будет о том, как мы расстались.
Боялась только увидеть его снова. Это я такая, перед экраном компьютерным, в телефонном разговоре, по электронной почте, наедине с дневником, пережитком прошлой эпохи, смелая и неотразимая. Что, если всё лишь самогипноз, попытка справиться с ужасом, и защита рассыплется, как только увижу?
Не брошусь ли я в грязь перед ним, не стану ли умолять, клянчить любви?
Её всё равно уже не будет. Но, даже понимая, человек не всегда в состоянии справиться с собой. Он любил меня не ту, которая плакала от обиды (не знаю, сможет ли он мне простить, что плакала не без причины?), и не ту, которая, простоволосая, в рубашке, ходила по комнате, веселилась, вооруженная тряпкой против пыли. Совсем не ту, которая лежала, простудившись, отчего на кухне в раковине росла гора посуды, и не ту, которая приходила с работы усталая и голодная, а дома ничего не было, кроме Дмитрия, который лежал и читал или смотрел телевизор. Он любил меня другую.
Наверно, ту самую, которая глядела блестящими глазами на него, едва знакомого, в Театре Оперетты — счастливую, спокойную, свободную. Может быть, ещё ту, с которой целовались на красной тахте в ложе Большого театра. Хрустальная люстра горела в мою честь, громокипящая опера гремела, чествуя новых влиятельных властителей мира, тяжелый занавес раздвигался, чтобы нас могли приветствовать. Мы пропустили весь спектакль — шел, кажется, «Борис Годунов», но мы не смотрели, мы только слушали, да и то невнимательно.
Скорее всего, и ту он любил, что отдалась ему в полуподвальном офисе среди ночных компьютеров на зелёном диване.
И, может быть, он любил даже ту, которая вскоре начала плакать, кричать и творить невероятные вещи — началась депрессия, самая что ни на есть клиническая депрессия, спровоцированная тем, что я приняла легкий наркотик, предложенный одним из редких знакомых, кто объявлялся раз в год и вот проявился незадолго до Дмитрия, нет, вру, уже после того, как пришел Дмитрий. Филипп — так его звали — стал моим бесом, отравителем любви, которая обещала стать высокой и чистой, как бы ни были опошлены эти слова.
Не хочу приводить диалогов, хотя могла бы погрузить читателя в толщу событий. Пришлось бы додумывать, доворачивать пружинки, где надо, убирать время, прореживать, чистить реальность. Есть, конечно же, дневники, какие-то записи. Но лучше просто рассказать. В повествовательном ключе. Некоторые события достаточно просто назвать по именам, чтобы другой почувствовал необратимость.
Многие мои друзья (тогда у меня были вроде как друзья, подумать только) терпимо относились к лёгким наркотикам и ничего особенно опасного в них не видели. Я всегда с удовольствием шла на эксперимент, время от времени курила травку — было легко и приятно, таблетки, правда, принимала давно, на первом курсе, тогда не понравилось, тяжелое полувменяемое состояние. Здесь не место рассказывать о наркотическом экспириенсе, суть в том, что я от беленького кругляшка с зайчиком ничего страшного не ждала, да и не сам зайчик меня толкнул, не он один, по крайней мере. С Филиппом имели обыкновение вести «метафизические» беседы, долго объяснять, о чём. Никогда не были телесно или ещё как-нибудь особенно близки. Только разговаривали.
И после той злополучной встречи сорвало. Я в такие глубины бреда погрузилась, которые были полной противоположностью раю, куда вознес Дмитрий. Всей семье стало понятно, надо что-то предпринимать. Но что? Положить в психушку? Лечить на дому? Вести к бабке? В церковь?
Тогда он меня не оставил.
И на том спасибо.
Представляю, как тяжело было родне. Такие состояния переносятся, не смотря на всю их тяжесть, самим утерявшим границы человеком легче, нежели его близкими. Потому что в тяжелом бреду и кошмаре для него есть реальное содержание, он живет полной жизнью, хоть эта жизнь и представляет собой нечто похлеще рядового фильма ужасов. А для них в происходящем нет содержания, нет смысла, они видят одно: близкий человек сходит с ума.
А в перевозбужденном мозгу тем временем прокручиваются целые сюжеты, развертываются эпохальные картины, которые еле отличаешь, а порой и вовсе не отличаешь от реальности. Вспоминаешь случаи из детства так, словно они произошли только что, и забываешь, ел ли сегодня что за завтраком. Мара, морок, конечно, но плотный, густой, завораживающий. Каждое движение исполнено смысла, и пусть оно влечет к гибели и вещам ещё более страшным, но оно потрясает вселенную.
Страшно заглянуть в такую пропасть, потому что она не имеет дна. И нет предела, на котором падение могло бы естественно замедлиться — всегда есть, что терять. В этом весь ад: естественного предела нет. Не существует точки, которую можно принять за кризис, как во время течения обычной болезни. Все болезни — болезни души, но самые серьезные болезни души протекают, когда тело остается в порядке. У него ничего не болит. Температура нормальная. Давление тоже. Потом, конечно, со временем, всё усиливающееся уродство души скажется и на теле. Проступят другие знаки, не те, которые возникают с болезнью тела, как бы тяжела она ни была. Расползутся трупные пятна на духовном уровне, проступающие сквозь материальный покров.
И во всём этом ну нет того мгновения, когда можно сказать: «Ну слава Богу, теперь так плохо, что хуже уже не будет. И завтра, если не начнется выздоровление, наступит смерть». Страданию, безумству, кошмару всегда остается, куда продолжаться. А смерть всё не наступает. Я насмотрелась на сумасшедших. От них даже оболочки человеческой подчас уже не остается, а они всё ещё живы. Лица одутловаты, обессмысленны, как морды спящих животных — да и то, физиономия моей собаки во сне выражала целые гаммы чувств — из угла рта течет слюна, а они даже не замечают. Не контролируют.