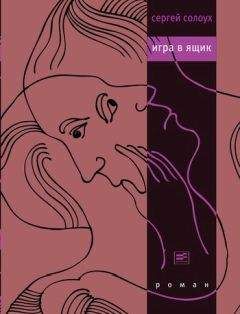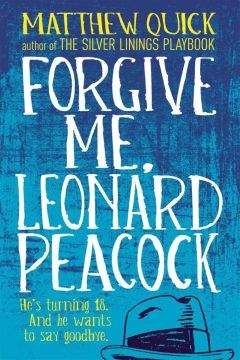– Лев Нахамович, автореферат тоже надо подготовить к предзащите?
– Какой автореферат? – как дачный краник на летней заре, поперхнулся столь неуместным и многосложным словом Л. Н. Вайс.
– Мой, – доверчиво лучась, неумолимо гнал волну Борис Аркадьевич. Качал. Лез на рожон.
Вот тут-то Лев Нахамович и опростоволосился. Ляпнул постыдное, немыслимое, несовместимое с его безукоризненными манерами лощеного проныры, английским твидом, блестящей итальянской кожей и сигаретами с ментолом Salem из олимпийских недоступных закромов:
– Вы что, совсем того?
Контакт с научным руководителем трагически терялся, а с А. Панчехой, он же Махатма, наоборот, все четче и яснее намечался, обрисовывался. И что ужасно, и то и это пугающе разнонаправленные перемещения в пространстве и во времени – на почве патентных изысканий.
Японскую зацепку Катц разгадал немедленно, не дал себя поймать, когда Махатма, тогда еще практически Панчеха, сугубый теоретик, не спятивший совсем и окончательно на почве раннего артрита и позднего тромбофлебита, как-то в холле неожиданно завел опасную сближением беседу о корнях солнца. Уже тогда, почти два года тому назад, беду предчувствуя надпозвоночной нежной шерсткой в любом дуновении с востока, Борис просто не стал вникать, только такую трудную и непривычную фамилию запомнил, по аналогии, как пару новых значков кандзи. Пан и Чеха.
Но вот когда в начале этой зимы уже готовый, агрессивный вирусоноситель Пана Сеха спросил, и снова на ходу, на лестнице, как бы нечаянно, не может ли Борис ему достать в патентной, до слез знакомой и родной Б. Катцу библиотеке, ВНПБ, копию давно забытого авторского свидетельства, ничего не екнуло, не оборвалось в душе несчастного.
– У них страничка десять копеек, – сказал Борис по-деловому и тут же получил увядший листик казначейского билета. А через полчаса еще и записульку с номерочком.
И с этого момента Боря Катц, очистку не приемлевший, а сотрясения капилляров и сосудов покрупнее попросту мучительно боявшийся, стал самым дорогим, желанным гостем в безумном клистирном централе за стеной.
– Борис! Минутка есть? Зайдешь?
В спартанской обстановке соседской кельи физическим, осязаемым и обоняемым воплощением и в мыслях запрещенного Борисом drang nach Osten, апофеозом всей враждебной водно-моторной деятельности Махатмы рос прибор АИ-1. На стапелях, в железной раме, под угольной, газетной пылью мутного портрета своего изобретателя, академика с таперской бабочкой-кокеткой на белой шее и строгой, как у космонавта, Звездой Героя на черном грифельном борту пиджака, воздвигался гидроаэроионизатор. Вечный двигатель здоровья, философский камень с электроприводом, устройство и принцип действия которого раскрыла, высветлила Махатме окончательно и полностью пара бумажек, доставленных собственноручно Б. А. Катцем из дома на Бережковской набережной, а. с. 115834.
– Борис, ты не поверишь, – шипел, шуршал весь шелушащийся от чистоты и праведности А. Панчеха и тыкал длинной отверткой пальца то в портрет бритого по всей окружности кумира, то в трубками топорщившийся агрегат на раме. – Все гениальное просто. Очень просто. Это точило и больше ничего, обыкновенное точило, только вместо абразивного круга диск-распылитель. Центробежная сила, механическое измельчение воды, производит гидроионы в объеме, пропорциональном квадрату угловой скорости... Это я сам подсчитал, – скромно добавлял Махатма. – Элементарное точило, поставленное на попа. А остальное физика, ты понимаешь?
Ну как не понять? Боря Катц, не славившися сообразительностью, ловивший на лету лишь птичий помет да глупые смешки вдруг поскользнувшись, в данном конкретном случае, в вопросе, касавшемся буквально жизни и смерти, суть ухватил на раз, просек, можно сказать, в первый же день, в момент его же собственной неосмотрительностью инициированной закладки чудодейственного точила с квадратом скорости в функционале.
Все! Рано или поздно к сонму всех ненавистных звуков, сочившихся, струившихся и падавших из-за двух общих стен, просившихся к Борису в уютный, тихий уголок, скоро добавится еще один, свистящий, ноющий, зубной, а вместе с ним, возможно, и невидимое, неосязаемое, но всепроникающее излучение. Неукротимым ионным ветром бациллоносных блох пихающее прямо сквозь кирпич и краску непосредственно к Б. Катцу в кухню. На образцово разложенные там продукты питания и столовые приборы. В предчувствии чудовищной разум и волю пожирающей антисанитарии Катц собирался умирать. И даже примерялся, глядел с тупою неопределенностью на серенький асфальт и клумбу под своим окошком.
И так тоскливо и безнадежно Борис ее гипнотизировал, что, утомленная Бориной нерешительностью, сама мостовая в один прекрасный день взяла и прыгнула. И Боря, как-то утром явившись на работу, увидел в холле главного корпуса портрет в траурной рамке, и тут случилось не придуманное, не навеянное перетоками бесцветной жидкости за стеной, а настоящее, обыкновенное несчастье, без длинной, корабельной, так его пугавшей руки Махатмы. Борис сошел с ума. Рехнулся. Б. Катц решил, что только он один на белом свете может утешить Олечку Прохорову и таким образом стать наконец-то постоянным обитателем Миляжково, с пропиской в профессорском поселке с непрофессорским названием ВИГА.
Какая мертвая петля! Уже давно Борис потерял надежду, не видел себя рядом с Олечкой, не числил ее в списках спасителей Отечества. Эту милую особу, когда-то ему довольно странным образом благоволившую и даже порой адресовавшую приватно, лично какие-то пусть и весьма своеобразные, но в общем-то теплом, сержантской грубоватой нежностью окрашенные слова и выражения. Пусть и не общего, быть может, негармоничного ряда, спрягающиеся и склоняющиеся индивидуально, но было же, все было именно для него, а потом вдруг разом – холод общих правил.
– Добрый день.
– Здравствуйте.
Не пара. Ну конечно, он осознал в конце концов жестокую реальность и всех юных сотрудниц научной библиотеки ИПУ Б. Б. переводил в кино. Вечерние сеансы – пятьдесят пять копеек за один билет. А когда удача ему не улыбнулась в возрастной группе до двадцати двух, Боря поднял планку до двадцати семи. И теперь два с полтиной уходили, а то и трешка, на субботние походы в театр с очкастой крашеной блондинкой из диссертационного фонда. Но баста. Ни в какие таганки-современники на Малой Бронной Катц больше не попрется. Он просто завернет в институт и пожмет маленькую, беленькую, от короткопалого отца унаследованную руку. И скажет... Что он скажет?
– Меня тоже поили этой... как ее... ну, этой... валерианкой... но ты не пей... выплевывай куда-нибудь... потом полгода голова не варит... нет, правда... нет, серьезно... ничего вообще не лезет... тридцать три раза повторяешь и не запоминается...
И еще он Олю поцелует как брат, впервые в жизни, в щеку. И все проблемы сами собой разрешатся в естественной логической последовательности, потому что Олечка Прохорова – не заносчивая профессорская дочь, какой была еще недавно. Олечка Прохорова отныне сирота. Такая же, как и он сам, Борис Аркадьевич Катц.
Два дня Борис дышал и скребся. Сидел в лаборатории, прохаживался по коридорам и посещал библиотеку, но даже тенью Олечка не мелькнула. В утро прощанья Борис потратился на шесть гвоздик и долго брился. Такой отважный и решительный, он растерялся, дотянув до похорон. До многолюдного собрания. И все, что казалось таким простым и легким при встрече один на один, сделалось почти невозможным под звуки магнитофонного Баха. Боря уже готов был не пойти, отложить все на потом, на рано или поздно неизбежную и неминуемую встречу в коридоре или лаборатории, он даже куртку снял – и вдруг увидел добрый знак. Книгу. В стопочке на антресолях шкафа – ту самую, Олечкину, давнюю, завернутую в выцветшую прошлогоднюю передовицу, которую он чуть было... не важно, не сделал же, не выбросил, не сдал... Значит, так надо.
Боря снова полез в рукава, а небольшой и мягкий талисман легко поместился во внутренний карман словно нарочно плотной, хоть и летней, югославской куртки, не выпирает. Радужный рыбий бок зеркала, вделанного в дверцу шкафа, отражал черную гладкую водолазку и общий строгий серый тон. Боря шагнул к двери, раскрыл ее, и то, что Махатма, Пана Сеха, не высунулся тут же, не опустил шлагбаум, стало еще одним хорошим знаком. Все правильно. Вперед.
На крыльце общаги стоял Роман Подцепа и курил. Серая гильза беломорины желтела и некрасиво подмокала, съедаемая огоньком уже у среза изломанного мундштука.
– Идешь? – словно тотчас же, на первом же встречном задумав испытать всю меру своей решимости, спросил Б. Катц.
– Иду, – глухо ответил Р. Подцепа и не прищурился, не отвернулся, как мог бы, должен был, дескать, ты проходи, дружок, ход не задерживай, мне все равно другой дорогой. Два несводимых в кучку глаза слегка ожили, замученный окурок полетел в кусты, и Рома выступил плечо к плечу, пошел рядом с Борисом.