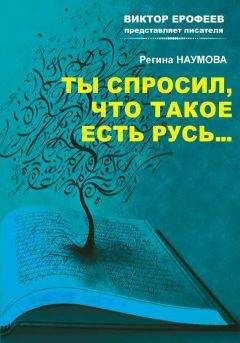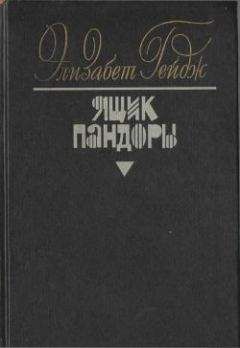– Ты хочешь сказать, что Кефал приставал к тебе с моего молчаливого позволения?
– Да, с твоего подлого молчаливого не-вме-ша-тель-ства. Ты не мог не видеть, что он ко мне подлащивается. Если видела я, как ты лез под юбку той девчонки, то как ты мог не видеть меня, когда Кефал пытался всунуть мне в рот своего членистоногого змея?
– Значит, я был пьян и не видел. А почему ты мне до сих пор об этом не рассказывала?
– Не хотела портить ваши с Кефалом отношения. Ты же сумасшедший, начал бы с ним выяснять – где, когда и с помощью чего он меня соблазнял?
– И ты, конечно, не поддалась?
– Да меня чуть не стошнило. Я только и думала, как бы побыстрее дать тебе по морде…
– А почему же не дала? Сейчас, когда Кефал отбыл в кущи небесные, ты все можешь говорить…
– Еще как дала! И ей каблуком вмазала по соплям, но, когда я тебя тормошила, ты упал на пол и стал блевать. Все вы кобели, – Пандора приняла вид святой примадонны, чем вызвала у Дария сильнейшее желание. Но лучше бы этого не было: его обрезанный и весь перебинтованный Артефакт начал активничать, причиняя тем самым хозяину несказанную боль. И Дарий, дабы отвлечься от похотливых помыслов, стал думать о Флориане, который зажал с ним расчет… И думы о мошеннике враз отбили все его похотливые желания.
Во дворе, куда они с Пандорой вошли, разыгрывалась душераздирающая сцена. На скамейке в растерзанном виде сидела Модеста и выла, при этом обеими руками, начиная от кончиков волос и кончая открытой шеей, царапала лицо, и кровь сочилась сквозь пальцы и крупными темными каплями падала на давно не стиранную фланелевую кофту, которую ей лет двадцать назад подарил Григориан. Стоящая возле лавки Медея пыталась оторвать ее руки от лица, но Модеста снова и снова продолжала скрести себя и выть страшным, нечеловеческим голосом.
– Наверное, белая горячка, – сказала побледневшая Пандора, с чем Медея не хотела соглашаться.
– Она страдает по Григориану… шестьдесят лет прожили, и теперь она одна, – у Медеи тоже полились слезы и она попросила Дария позвонить в неотложку. – А тут еще предупреждение из жилуправления… Господи, скоро нас всех попрут, как злостных должников… А наплевать, все опротивело, жить неохота…
Но Дарий уже не слушал, его отвлекла подъехавшая к калитке неотложка.
Дежурный врач с помощью мужчины-фельдшера сделал Модесте укол, после которого та стихла и обмякла. Релаксатор. Дарий помнил, как такие же усмиряющие психику и отчасти боль уколы делали Элегии, когда у нее разыгрывались болевые приступы. И, глядя на подавленную лекарством Модесту, ему хотелось ее ободрить, но не было слов и надежды, что хоть какой-то смысл дойдет до ее исковерканного сознания. Ее провели до «скорой» и посадили внутрь. Но минутой ранее, когда Модеста шла в сторону калитки, она обернулась и крикнула неизвестно кому: «Закройте на ключ дверь, выключите газ…»
В доме на улице Сиреневой еще на одного жильца стало меньше. А желтых опавших листьев – больше. Осенние ветры мягкой метелкой перекатывали их от переулка к переулку, от забора к забору, и – что самое грустное – последние дни бодрствовала опекаемая Дарием березка. Вскоре она и ее соседки впадут в летаргический сон, однако жизнь по-прежнему будет в них теплится до прихода весенних ветров.
Да, жизнь, несмотря ни на что, продолжалась. Из больницы выписался Легионер, которого забрала Лаура, и, когда супружеская чета поднималась по лестнице, из своей квартиры выскочила Медея, чтобы поприветствовать соседа. На шум вышел и Дарий, он тоже через окно видел возвращение Айвара и счел необходимым соблюсти рамки приличия и встретить товарища по несчастью. А какая разница, что у человека болит – глаза или то, что болтается между ног. «Как дела, Айвар, как здоровье?» – «Ничего, спасибо, как вы тут без меня?» – «У нас, если не считать Григориана, Олигарха и Модесты, тоже вроде бы все нормально, но ты посвежел, поправился…» – «На целых два кило, Лаура меня подкармливала словно на убой…» И никто не обмолвился о главном: о зрении Легионера. Некорректно, нетактично, неуместно, неприлично, не вовремя, надо понять человека, ему сейчас не до этого и пр., пр. соображения. Легионер правильно понял своих соседей и оценил их искреннюю приветливость. А когда в коридор вышла Пандора, он и вовсе расцвел и даже позволил себе поцеловать ее руку. Лаура смотрела на своего отвоеванного у смерти мужа и умилительно улыбалась… Все хорошо, все замечательно. Если, конечно, не считаться с тем фактом, что в это время пошел сильнейший ливень с градом, и Дарий пожалел, что погода помешала ему сходить на природу.
Жуткое для души испытание, когда идет дождь, когда осень, когда нечем заняться, когда финансы поют романсы и когда во рту от нечищеных зубов отвратный привкус и когда в сознании нет ни единой светлой идеи, как отменить осень и на какие шиши купить тюбик зубной пасты и пачку сигарет… И остается только одно: подойти к зеркалу, приспустить штаны и извлечь на свет Артефакт, который напоминал раненого пехотинца с перебинтованной головой. Он хотел снять повязку, но она присохла, пришлось ее отмачивать теплым чаем и миллиметр за миллиметром отдирать от кое-как зашитой плоти. И когда это удалось сделать, перед Дарием предстало охуенное убожество с совершенно исковерканной крайней плотью, воспаленно набухшей и кровоточащей кожицей с желтыми вкраплениями. Это был гной, и нужно было как-то его устранить. Пандора принесла флакончик зеленки и самолично смазала Артефакт. И когда она это делала, Дарий не увидел на ее лице выражения брезгливости, наоборот, оно отражало полную сосредоточенность, какая обычно сопутствует благородным помыслам.
– Это и есть обрезание? – с нотками удивления в голосом спросила Пандора. – А я-то думала, что обрезание – это когда отрезают какую-то его часть…
– Ты лучше найди в ящичке бинт и не говори глупостей. Зеленка совершенно не щиплет, возможно, истек срок годности.
– Конечно, разумеется, в самом деле… зеленке уже пятнадцать лет, и толку от нее, как…
– Сходи к Медее, может, у нее есть перекись водорода или йод… И побыстрее, мне надоело стоять в такой позе…
Однако у Медеи ничего подобного не было, и Пандоре пришлось вскипятить воды, насыпать в кружку столовую ложку соды и столько же поваренной соли. Пандора, как всегда, непосредственна: полоскание она приготовила в его кофейной чашке, которую она поднесла к Артефакту и своими же руками опустила Его в еще не остывший раствор. Но Дарий, стиснув зубы, стерпел и вскоре привык к температуре и даже испытывал удовольствие от принятия содово-соляной ванночки. Но то ли от горячей воды, то ли от прикосновения рук Пандоры Артефакт вдруг взбух, вздыбился и от напряжения потек кровью и гноем… И, видимо, это было для него как никогда полезно. Вся гадость стекла в раствор, и ему стало легче. Значительно легче, хотя боль, возникшая от расширения пещеристых тел, была нешуточной… Пандора нашла оставшийся от Элегии кусок марли и ножницами нарезала несколько полосок. И усердно забинтовала. Когда Дарий взглянул на ее работу, удивился совершенству бинтового кокона. Ей и в самом деле нужно было бы стать медсестрой…
После того как дождь с градом прекратились и роскошная радуга соединила реку с морем, Дарий решил пойти в дюны, чтобы ухватить за подол уходящее бабье лето. Собралась и Пандора, облачившись в спортивные брюки и в свою кожаную курточку, которую ей подарил Дарий на ее двадцатилетие. О время, ухарь непоколебимый, что ты с нами делаешь?!! Когда она надевала на таксу поводок, возник вопрос: как ее величество наречь? Кефал называл собаку щенком, Пандора же предложила назвать ее Шоколадкой, за ее шоколадного цвета окрас.
– Длинно, – усомнился Дарий, но, чтобы не обижать Пандору, нашел компромисс… – Шок! Это теперь наш Шок…
– Да, но, если я что-нибудь понимаю, это сучка… а Шок – мужская кличка…
– Шок об этом не знает. Пожалуйста, собирайтесь побыстрее, может снова пойти дождь…
И вот втроем они направились к заливу, и со стороны этот поход выглядел довольно комично: впереди, натянув поводок изо всех силенок, пластался лопоухий Шок, за ним едва поспевала Пандора, а позади, с мольбертом и с сигаретой в зубах, вышагивал Дарий. Они прошли аллеей, сплошь усеянной липкой желтой листвой, миновали ресторанчик, уже забитый и забытый до весны, и вышли в поникшие заросли ивняка и слежавшегося тяжелого песка. Пандора с Шоком спустились к кромке воды, Дарий же с мольбертом поднялся на свою точку, откуда открывался во всей своей широте божий мир. Но туман… Туманище покрывал половину залива, замутил горизонт и потому Дарий поставил мольберт так, чтобы видеть прибрежную кромку и продольную часть дюнной полосы с ее чахлым ландшафтом, с размытыми очертаниями сосен, скамеек и еще не убранных раздевалок. С высоты ему хорошо были видны Пандора с Шоком, который, отпущенный с поводка, носился как угорелый, казалось, еще немного – и его уши оторвутся и заживут птичьей долей. А кстати, подумал Дарий, ни одной чайки, ни одной вороны не видно. И он вспомнил ту, летнюю чайку, устало греющую свою эфирную душу в золотистом песочке, и сердце Дария от воспоминаний отеплилось, но и опечалилась. Быть может, птица не долетела до осени, и уже давно ее тельце покрыли пески, а ее радужные глазки выклевали вороны. И вдруг, как наваждение, как знак приближения невозможного, к нему подлетело белокрылое существо и уселось на откинутую крышку мольберта. Дарий мог поклясться, что это была та самая чайка, с цепкими лапками, и на одной из них средний ноготок был надломлен. Так и есть, опознание подтвердило… опознание произведено… копия идентична оригиналу или наоборот… Она сидела на крышке и чистила клювом крыло. И делала она это так активно, что мольберт мелко завибрировал, и Дарию показалось, что под ним содрогнулась дюна, и он, оберегая краски, попридержал алюминиевые ножки мольберта… Когда птица перестала чиститься, она, подобно собаке, вылезшей из воды, встряхнула всем оперением и опустилась на лапки. Она заметно подросла, шейка переливалась здоровым пером, в глазах чистота отраженного мира, золотистый клюв закостенело тверд и готов к подвигам. Дарий протянул руку и дотронулся до чайки, и ему показалось чудесным это соприкосновение, как будто дотронулся рукой до ветров и штормов мира… Но хорошего, а тем более чудесного много не бывает. Чайка привстала, напружинилась, подалась тельцем вперед и легким пером взлетела над дюной. Сделав прощальный круг, она направилась в сторону моря. Художник неотрывно следил за гостьей, пока та не скрылась в тумане.