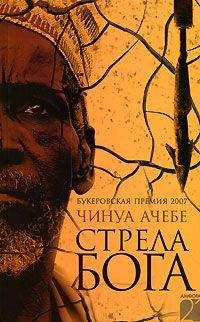Одаче вышел, глотая слезы, Эзеулу почувствовал мимолетное утешение.
Наконец наступило еще одно новолуние, и он съел двенадцатый клубень ямса. Наутро он поручил своим помощникам объявить, что праздник Нового ямса состоится через двадцать восемь дней.
Весь тот день на усадьбе Амалу били барабаны, потому что завтра будут вторые похороны и пир. Бой барабанов доносился до всех деревень Умуаро, напоминая об этом их жителям; впрочем, в нынешнюю лихую пору, когда люди голодны, как саранча, в напоминании никто не нуждался.
Ночью Эзеулу приснился один из тех странных снов, которые были не простыми сновидениями, а чем-то большим. Проснувшись, он вспомнил этот сон со всеми подробностями и отчетливостью яви, как и тот сон, что привиделся ему тогда в Окпери.
Он сидел у себя в оби. Судя по звуку голосов, за его усадьбой, по ту сторону ее высоких красных стен, шли плакальщики. Это очень его обеспокоило, потому что там, за стеной, не было дороги. Кто они такие, эти люди, протоптавшие тропу позади его усадьбы? Он внушал себе, что надо выйти и бросить им вызов, ибо недаром ведь говорят, что, пока мужчина не схватится с теми, кто ходит за его усадьбой, тропинка не зарастет. Но, охваченный какой-то нерешительностью, он оставался на месте. Между тем голоса поющих, барабаны и флейты звучали всё громче. Плакальщики пели песнь, с которой покойника несут на погребение в лес:
Глядите! Питон!
Глядите! Питон!
Лежит поперек пути.
Как обычно, звуки пения доносились волнами, словно набегающие один за другим порывы ветра в бурю. Плакальщики, идущие в начале процессии, пели с опережением тех, что шли в середине, рядом с покойником, а те, в свою очередь, несколько опережали в пении замыкающих шествие. Барабаны били в такт этой последней волне.
Эзеулу стал громким голосом сзывать своих домашних, чтобы всем вместе прогнать нарушителей, вторгшихся в его владения, но усадьба была безлюдна. Его нерешительность сменилась тревогой. Он вбежал в хижину Матефи, но увидел лишь холодную золу в очаге. Тогда он бросился к хижине Угойе, зовя ее и детей, но в хижине уже обвалилась кровля, а сквозь пальмовые листья крыши пробились зеленые травинки. Он мчался к хижине Обики, когда новый голос, зазвучавший позади усадьбы, заставил его резко остановиться. Пение похоронной процессии замерло тем временем в отдалении. Но возможно, что они возвращались с новобрачной — слышен был только этот одинокий, скорбный голос, который жаловался им вслед. Щемящая, сладкая грусть одинокого певца оседала, как ночная роса на голову.
Дитя Идемили, я в небе был рожден,
И жгучих слез небесных капли
На коже выжгли у меня узор.
Сын неба, царственно скользил я по земле,
Лежал, свернувшись, на пути скорбящих.
Но странный
Колокол
Вызванивает песнь разрухи:
«Оставьте, люди, ямс, оставьте кокоямс,
Идите в класс».
И я трусливо прочь ползу, едва заслышу,
Как мне кричит, играя, детвора:
«Гляди-ка! Вон христианин!»
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха…
Безумный хохот, которым вдруг закончилось пение, заполнил собой усадьбу, и Эзеулу проснулся. Несмотря на холодок, принесенный харматтаном, он был весь в поту. Но каким же огромным облегчением было сознавать, что он пробудился и все это — сон. Безотчетная тревога и мучительная напряженность этого сна отпустили его на пороге пробуждения. Однако оставалось смутное чувство страха: питон закончил свою песнь голосом матери Эзеулу, когда она бывала охвачена безумием. Нваньи Окпери — так звали ее в Умуаро — была в молодости большой певуньей и сочиняла для своей деревни песни с такой же легкостью, с какой иной человек говорит. Позднее, когда на нее находило умопомрачение, эти старые песни вперемешку с прочими, сочиненными, видимо, ею же, вырывались наружу через трещины в ее сознании. В детстве Эзеулу жил в вечном страхе перед новолунием, когда у его матери случались припадки помешательства и на ноги ей надевали колодки.
В этот момент мимо усадьбы пронесся Огбазулободо, и Эзеулу окончательно вернулся к действительности. Может быть, он все еще находился под впечатлением сна, но только за всю свою жизнь он ни разу не слышал, чтобы ночной дух проносился с такой неистовостью. Как будто протопало полчище бегунов, увешанных от шеи до щиколоток связками громыхающих экпили. Дух явился со стороны ило и умчался в сторону Нкво. Должно быть, на чьей-то усадьбе горел свет, потому что дух ночи, кажется, остановился на миг и крикнул: «Эво окуо! Эво окуо!» Нарушитель, кто бы это ни был, наверное, сразу же задул свет. Успокоенный дух ринулся дальше и вскоре исчез в ночи.
Эзеулу подивился, почему дух не поприветствовал его, пробегая мимо усадьбы. А может быть, тот выкрикнул приветствие до того, как он проснулся.
Взбудораженный тягостным сном и неистовством Огбазулободо, он больше не смог заснуть, как ни старался. Потом на усадьбе Амалу начали палить из ружья. Эзеулу насчитал девять выстрелов, в промежутках между которыми бил барабан экве. Сна не было ни в одном глазу. Он встал, на ощупь отодвинул задвижку на резной двери и отворил ее. Затем взял лежавшее у изголовья мачете и бутылочку с табаком и выбрался во внешнюю комнату. Там ощущалось сухое дыхание харматтана. По счастью, в очаге еще тлели два больших полена уквы. Он подул на угли и развел небольшой огонь.
Никто в деревне не мог носить огбазулободо так, как Обика. Всякий раз, когда это пытался делать кто-то другой, разница была огромная: либо он бежал слишком медленно, либо слова застревали у него в горле. Ведь ике-агву-ани при всем своем могуществе не может превратить ползущую тысяченожку в антилопу, а немого — в оратора. Вот почему, несмотря на то что родня Амалу затаила большую обиду на Эзеулу и его близких, Ането все-таки пошел к Обике и попросил его пробежать в качестве огбазулободо в ночь перед вторыми похоронами.
— Я не хочу отказывать тебе, — сказал Обика в ответ на просьбу Ането, — но со вчерашнего дня меня немного лихорадит, а человек не может браться за такое дело, если собственное тело не вполне ему послушно.
— Не знаю, что такое творится, но каждый, с кем ни встретишься, дребезжит, как треснутый горшок, — посетовал Ането.
— Почему ты не попросишь пробежать для тебя Нвеке Акпаку?
— Я знал про Нвеке Акпаку, когда шел к тебе. Я даже проходил мимо его дома.
Обика задумался.
— Делать это умеют многие, — продолжал Ането. — Но когда люди, которым никак не удается поймать разъяренного быка, снова и снова зовут какого-то человека, это значит, что он один по-настоящему умеет укрощать быков.
— Что верно, то верно, — сказал Обика. — Хорошо, я согласен, но соглашаюсь я по малодушию.
«Если я откажусь, — подумал Обика, — они станут говорить, что Эзеулу и его родные поклялись расстроить вторые похороны своего односельчанина, не причинившего им никакого вреда».
Он не сообщал жене, что уходит на ночь глядя из дому, покуда не покончил с ужином. Обика всегда приходил есть в хижину жены. Друзья подшучивали над этой его привычкой, утверждая, что женщина совсем вскружила ему голову. В тот момент, когда он заговорил, Окуата очищала миску от остатков похлебки. Она еще раз провела согнутым указательным пальцем по стенкам миски, дочиста вытирая ее, и облизала палец.
— Уходишь, когда у тебя такой жар? Обика, да пожалей ты себя! Похороны ведь будут завтра. Неужели они до утра без тебя не обойдутся?
— Я ненадолго. Ането — мой приятель, и я должен сходить посмотреть, как идут приготовления.
Окуата обиженно молчала.
— Хорошенько запри дверь на задвижку. Никто тебя не утащит. Я скоро вернусь.
Бом-бом-бомбом-бом-бомбом — ударил барабан экве-огбазулободо и продолжал некоторое время выбивать дробь, предупреждая всякого, кто еще не отошел ко сну, что надо скорей ложиться спать и гасить свет, ибо свет и огбазулободо — смертельные враги. После того как его рокот продлился достаточно долго, чтобы оповестить всех и каждого, барабан замолк. И снова воцарилась ночная тишина, в которой звенели и стрекотали сонмы насекомых. Обика и те, кто понесет аяку — то есть хор духов, — сидели в окволо, на самой нижней ступеньке лестницы, разговаривая и смеясь. Барабанщик, колотивший в экве, присоединился к ним, оставив свой барабан, видневшийся поодаль в неярком свете факела, пропитанного пальмовым маслом.
Когда экве принялся выбивать второе и окончательное предупреждение, Обика все еще продолжал разговаривать с другими, как будто это его и не касалось. Старик Озамба, у которого хранилось все убранство ночных духов, уже расположился рядом с барабанщиком. Вот он несколько раз выкрикнул уголи своим надтреснутым голосом, словно очищая его от паутины. Потом спросил, здесь ли Обика. Обернувшись в его сторону, Обика смутно различил в полумраке фигуру старика. Медленно, с нарочитой неторопливостью поднялся он на ноги, подошел к Озамбе и встал перед ним. Озамба нагнулся и достал юбку, сплетенную из веревок и всю обвешанную громыхающими экпили. Обика поднял вверх руки, чтобы Озамба мог без помех надеть на него юбку и завязать на талии. Покончив с этим, Озамба стал, как слепец, шарить вокруг себя руками, пока рука его не натолкнулась на железный посох. Он выдернул его из земли и вложил Обике в правую руку. Экве, освещаемый мерцающим пламенем факела, продолжал выбивать дробь. Обика крепко сжал рукой посох и стиснул зубы. Озамба дал ему немного времени, для того чтобы он мог полностью приготовиться. Затем он медленно-медленно поднял ожерелье ике-агву-ани. Экве бил всё быстрее и быстрее. Обика наклонил голову, и Озамба повесил ике-агву-ани ему на шею. Вешая ожерелье, он проговорил: